Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 30(326)
Рубрика журнала: Филология
Секция: Лингвистика
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5
ИРОНИЧЕСКИЙ МОДУС ФРАНЦУЗСКОЙ РЕЧИ
THE IRONIC MODUS OF THE FRENCH LANGUAGE IN THE NOVEL "THE DEMONS" BY F.M. DOSTOYE
Shaulova Maria
master's student, Faculty of Translation, Moscow State Linguistic University,
Russia, Moscow
Borisova Valentina Vasilevna
scientific supervisor, PhD (Philology), professor, Moscow State Linguistic University,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются примеры функционирования французских слов и выражений в романе Ф.М. Достоевского "Бесы", прежде всего в речи одного из главных героев Степана Трофимовича Верховенского. Также делается вывод о том, что иронический модус его французской речи в ряде случаев коррелирует с авторской иронией.
ABSTRACT
The article analyzes examples of the functioning of French words and expressions in Fyodor Dostoevsky's novel "Demons," primarily in the speech of one of its main characters, Stepan Trofimovich Verkhovensky. It is also concluded that the ironic mode of his French speech correlates with the author's irony in some cases.
Ключевые слова: Достоевский, «Бесы», французская речь, иронический модус.
Keywords: Dostoevsky, "Demons", French speech, ironic modus.
Ирония как эстетическая категория определяется по-разному. Это может быть языковой троп как прототипическая ирония, представляющая собой антифразис – способ сказать одно, имея в виду нечто противоположное, с целью выражения критической оценки того или явления, ситуации или объекта. Также ирония характеризуется как модус художественности [6, с. 50–55], или вид пафоса, идейно-эмоциональная авторская оценка и т.п. Например, в новейшем философском словаре она характеризуется следующим образом: «Ирония (греч. eironeia – притворство) – металогическая фигура скрытого смысла текста, построенная на основании расхождения смысла как объективно наличного и смысла как замысла. Выступает в качестве скрытой насмешки, чем отличается от сатиры и пародии с их эксплицитно идентифицированным статусом» [2, с. 184]. Это определение иронии дополняется ее функциональным описанием: «Фигура иронии является семантически амбивалентной: с одной стороны, она есть высмеивание и в этом отношении профанация некоей реальности, основанная на сомнении в её истинности или даже предполагающей неистинность этой реальности, с другой же, – ирония есть как бы проба этой реальности на прочность, оставляющая надежду на её возможность или – при уверенности в обратном – основанная на сожалении об отсутствии таковой («горькая ирония») [2, с. 185].
Ирония в высшей степени показательна и для произведений Ф.М. Достоевского, умевшего наряду с «великой грустью» ощущать и великую силу юмора, как писал Р. Г. Назиров, один из выдающихся исследователей творчества писателя [4, с.176]. В.В. Борисова также отмечает парадоксальные примеры выражения иронии в последнем романе Достоевского. Так, Иван Карамазов со свирепой настойчивостью спрашивает черта: «Есть Бог или нет?», а черт отвечает: «Ей-богу, не знаю…» [1, с. 90].
Материалом нашего исследования послужили как текст романа «Бесы», так и цифровые ресурсы «Словаря языка Ф.М. Достоевского» [5], в котором приведены примеры со словом «ирония» из произведений писателя, отмечены ее разновидности. В романе «Бесы» это «патетическая», «хитрейшая», «яростная», «победоносная», «демоническая ирония». Также есть выражения «с иронией заметить», с иронией прокричать», «с иронией вырвалось». Неоднократно в романе используется глагольная форма «иронизировать». Примечательно, что по отношению к одному из главных героев произведения Достоевского Степану Трофимовичу Верховенскому упоминается «демон иронии, который всю жизнь терзал его» [3, с. 151].
Тотальная ирония, отличающая роман «Бесы», преимущественно проявляется в речи персонажей, в особенности рассказчика-хроникера. Мы проанализировали 131 пример иронического функционирования французских слов и выражений в романе Достоевского «Бесы» и в первую очередь обратили внимание на французскую речь Степана Трофимовича Верховенского. Он не случайно много говорит по-французски. Степан Трофимович – представитель либерального русского дворянства, переживший жестокое разочарование в «женевских идеях», подобно самому автору – бывшему петрашевцу, усердному читателю произведений французских социалистов-утопистов в молодости: «О друзья мои! <… > – вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят! Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего...» [3, с. 24].
Поэтому иронический модус французской речи старшего Верховенского в передаче рассказчика-хроникера в этом плане коррелирует с авторской иронией. В первой главе Степан Трофимович Верховенский использует выражение «on m'a traité comme un vieux bonnet de coton!» («Со мной обошлись как со старым ночным колпаком!») [3, с. 23]. Это справедливое и очевидное ироническое высказывание. Оно показывает, как восприняли молодые литераторы Степана Трофимовича в Петербурге: «Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался» [3, с. 23].
В этой же главе Степан Трофимович, в письме из-за границы к Варваре Петровне, коряво переводит русскую пословицу «куда Макар телят не гнал» как «dans le pays de Makar et ses veaux» (в стране Макара и его телят) [3, с. 25]. Этот перевод не случайно выглядит нелепым, что отмечает и рассказчик: «Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять и перевести лучше; но это он делывал из особого рода шику и находил его остроумным» [3, с. 25].
Оставим за скобками вопрос, насколько хорошо Степан Трофимович знал французский. Важно то, что французские выражения в его устах звучат иронически. Так, нередко Степан Трофимович нарочито контаминирует русскую графику и лексику с французской: «когда теперь какой-нибудь Andrejeff, un православный шут с бородой, peut briser mon existence en deux» и т. д., и т. д. («может разбить мою жизнь») [3, с. 24]. Здесь прорывается еще неизжитый снобизм Степана Трофимовича, что объясняет иронию рассказчика над ним. Приведем еще один пример выражения иронии уже как горькой самоиронии: «друг мой, я открыл ужасную для меня… новость: je suis un простой приживальщик, et rien de plusl Mais r-r-rien de plus! («я всего лишь простой приживальщик, и ничего больше! Да, и-и-ничего больше!») [3, с. 26].
Смешение русской речи с французской, вызывающей иронический эффект, вообще показательно для Степана Трофимовича «И чего она всё сердится! – жаловался он поминутно, как ребенок. – Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы, qui boivent en zapoï... («Все одаренные и передовые люди в России были, есть и будут всегда картежники и пьяницы, которые пьют запоем»). Довольно двусмысленно звучит и самооправдание героя: «а я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница» [3, с. 53]. Другой аналогичный пример: «Она должна узнать это, иначе не будет, иначе только силой потащат меня под этот ce qu'on appelle le венец!» («так называемый») [3, с. 100].
Кроме «ученого» Степана Трофимовича другие герои романа не столь часто вставляют французские выражения в разговор, который преимущественно протекает на русском языке: «Il faut être digne et calme avec Lembke» (С Лембке нужно держать себя достойно и спокойно). – О, croyez-moi, je serai calme! (О, поверьте мне, я буду спокоен!) [3, с. 334]. Последний пример любопытен. Эту фразу произносит хроникер, с единственной целью привести в чувство Степана Трофимовича. До этого он, понимая французский, отвечал всегда по-русски.
Подводя некоторые итоги, отметим, что модус иронии соотносится с тем, в какую риторическую позу встает персонаж, в данном случае Степан Трофимович, который на протяжении всего романа большей частью рисуется. Другие герои тоже время от времени вставляют фразы на французском, но это не делает их комичными. Степан Трофимович же, имеющий репутацию ученого, своим показным остроумием напоминает человека, который на самом деле слабо знает французский язык, особенно учитывая то, что он так и не закончил свой научный труд на нем.
С другой стороны, показательно, что ближе к концу романа Степан Трофимович выглядит в некотором смысле трогательно, а не комично, хотя при этом говорить по-французски он не перестает. Однако это уже не смешит читателя, потому что персонаж больше не шутит, а говорит от сердца: признается, что он «J'ai menti toute ma vie» («лгал всю свою жизнь») [3, с. 506].
В этом мы видим динамику реализации иронического модуса французской речи в романе Достоевского «Бесы».
Список литературы:
- Борисова В.В. Актуальный Достоевский: тексты и контексты. Уфа, 2021.156 с.
- Грицанов А.А. Ирония // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск: Книжный Дом. 2001. – 1040 с.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 10. Бесы. Л.: Наука. – 1974. – 519 с.
- Назиров Р.Г. Юмор Достоевского // Русская литература 1870-1890 гг. – Свердловск, 1977. – Вып. 10. – 152 с.
- Словарь языка Достоевского. Идиоглоссарий. И–М. – М.: Азбуковник. – РАН. Институт русских языков. – 2012. – 848 с.
- Тюпа В.И. Художественный дискурс (введение в теорию литературы). – Тверь, 2002. – 80 с.
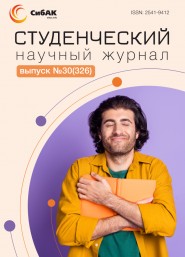

Оставить комментарий