Статья опубликована в рамках: XCVII Международной научно-практической конференции «Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки» (Россия, г. Новосибирск, 11 августа 2025 г.)
Наука: Филология
Секция: Литература народов стран зарубежья
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ЛОВУШКА СТРАСТЕЙ В ПОВЕСТИ М. ЖУМАБАЕВА «ГРЕХ ШОЛПАН»
THE TRAP OF PASSIONS IN M. ZHUMABAEV'S NOVEL «SHOLPAN'S SIN»
Teterina Kristina
teacher of Russian language and literature, North Kazakhstan State University named after Manash Kozybaev,
Kazakhstan, Petropavlovsk
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется трагедия героини через междисциплинарный анализ категории страсти в религиозном (греховное порабощение души), философском (неконтролируемое желание объекта) и психологическом (компульсивное заполнение экзистенциальной пустоты) аспектах. На материале повести демонстрируется, как страсти Шолпан – от эгоцентричной любви до магического отношения к вере – превращают ее жизнь в пародию на подлинные чувства, приводя к саморазрушению. Работа раскрывает глубину психологического анализа в казахской классической литературе, показывая ее способность исследовать сложные внутренние конфликты.
ABSTRACT
The article explores the tragedy of the heroine through an interdisciplinary analysis of the category of passion in religious (sinful enslavement of the soul), philosophical (uncontrollable desire for an object) and psychological (compulsive filling of existential emptiness) aspects. The story demonstrates how Sholpan's passions – from self-centered love to a magical attitude to faith – turn her life into a parody of genuine feelings, leading to self-destruction. The work reveals the depth of psychological analysis in Kazakh classical literature, showing its ability to explore complex internal conflicts.
Ключевые слова: мировая литература, казахская повесть, страсть, грех, антропология, философия.
Keywords: world literature, Kazakh novel, passion, sin, anthropology, philosophy.
Повесть Магжана Жумабаева «Грех Шолпан» представляет собой материал для глубокого психологического исследования природы человеческих страстей и их разрушительного воздействия на личность. Одна из центральных проблем произведения – вопрос о подлинности чувств главной героини и ее способности к истинной любви.
Понятие страсти, будучи центральным в анализе повести, требует многоаспектного рассмотрения. В религиозной традиции, особенно в исламском контексте, значимом для казахской культуры, страсть (араб. «шахва») в негативном ключе понимается как греховное порабощение души, когда низменные желания подменяют собой знание слова Аллаха. Философская мысль, от Аристотеля до современных авторов, нередко трактует страсть как ключевой элемент человеческого бытия; она может быть разрушительной или творческой. Психологический подход раскрывает страсть как компульсивное заполнение экзистенциальной пустоты, когда человек пытается заполнить внутреннюю опустошенность внешними объектами влечения. Именно в этом триединстве подходов мы будем рассматривать трагедию Шолпан, чья жизнь стала наглядной иллюстрацией разрушительной силы необузданных страстей.
В начале повести автор подчеркивает противоречивость позиции Шолпан: «В год, когда Шолпан вышла замуж за Сарсенбая, встречаясь на отшибе с молодками, она тоже, как и все, говорила, что нет в жизни отрады без ребенка. Однако, это были только слова» [2, с. 336]. Это первое важное свидетельство ее неискренности – внешне соблюдая общепринятые нормы, внутренне она уже тогда жила в своем собственном эмоциональном мире. Особенно показательно, что, получив редкую для казахской женщины того времени возможность выйти замуж «по любви» («хоть Шолпан и повезло в том, что ей среди тысяч молоденьких казашек, продаваемых за калым, удалось в кои-то веки выйти замуж по любви» [2, с. 336]), она не стремится к подлинной близости с мужем. Шолпан создает эмоциональную иллюзию, в которой дети воспринимаются как угроза: «Была ли она одна в просторной белой юрте, или предавалась любовным утехам в объятиях мужа, она внутренне молила лишь об одном: «Создатель, не дай мне ребенка!» [2, с. 336].
Фундаментальная проблема Шолпан заключается в том, что за три года брака она ни разу не попыталась выяснить отношение мужа к вопросу о детях. Этот факт особенно показателен, если учесть, что в традиционном казахском обществе, где жизнь без детей – напрасно прожитая жизнь, подобное молчание неуместно. Более того, когда Сарсенбай сам проявляет интерес к детям, восторженно рассказывая о визите к другу («какие милые дети у Нуржана»), «причем у него и в мыслях не было, что сам-то он бездетный… Его не волновало это обстоятельство» [2, с. 338]), Шолпан реагирует не радостью за мужа, а паникой за себя: «И вдруг Шолпан обожгло как молнией. Она поняла, что все эти три года страшно ошибалась» [2, с. 338]. Эта реакция красноречиво свидетельствует о ее эгоцентризме – она не способна разделить чувства мужа, а воспринимает все исключительно через призму собственных переживаний. Поведение Шолпан иллюстрирует компульсивность – навязчивые действия, направленные на подавление тревоги и заполнение внутренней пустоты. Они временно снижают напряжение, но не решают глубинных проблем. Как отмечает Менделевия, «компульсивность – склонность к формированию навязчивых действий, идей» [6, с. 311] с целью унять тревогу, страх, боль.
Психологический механизм такого поведения хорошо описан в работе Делиса и Филлипса: «“Слабые” стараются сильнее. Ощущение опасности и желание вернуть себе контроль над ситуацией заставляют их прилагать большие усилия, чтобы повысить свою привлекательность… Цель всех этих усилий – получить эмоциональную власть над любимым человеком и перестать беспокоиться о том, что вас отвергнут, то есть завоевать его любовь. Но здесь кроется ловушка» [2, с. 22–23]. Именно это мы наблюдаем у Шолпан – ее последующие действия (молитвы, обращение к знахарям, измена) направлены не на установление подлинной близости с мужем, а на бегство от реальности, восстановление контроля над ситуацией и своими эмоциями.
Особого внимания заслуживает религиозный аспект поведения Шолпан. Начав молиться о ребенке («Создатель, дай мне ребенка!» [2, с. 339]), она быстро разочаровывается в эффективности этого метода и обращается к знахарям: «У каждого встречного муллы покупала заклинания. Пила освященную ходжами воду» [2, с. 340]. Этот переход от молитвы к магическим практикам особенно показателен с точки зрения исламской традиции, где четко различается обращение к Аллаху и оккультные практики. Как отмечается в Коране: «А кто более заблудший, чем тот, кто следует страсти своей без наставления от Аллаха?» (аль-Къасас 28:51) [4, с. 545]. Шолпан, следуя своей страсти, выбирает именно путь заблуждения, подменяя истинную веру магическими ритуалами.
Кульминацией нравственного падения Шолпан становится измена мужу, которую она оправдывает благородной целью: «Ведь это она сделает не для того, чтобы изменить мужу, а чтобы зачать ребенка, дать кому-то неведомому и несуществующему счастье появления на свет» [2, с. 344]. Однако это самооправдание не выдерживает критики – если бы Шолпан действительно думала о ребенке, она бы прежде всего подумала о его будущем в обществе, где факт прелюбодеяния не остался бы тайной. Как верно отмечает Кайралапова, «грех для казаха почти совпадает с грехом для мусульманина» [5, с. 388], а значит, ребенок, зачатый в грехе, с высокой вероятностью был бы обречен на социальное клеймо.
Поведение Шолпан после измены еще раз подтверждает ее эгоцентричную природу. Забеременев, она не испытывает угрызений совести, а напротив, радуется исполнению своего желания: «Как же была рада Шолпан, когда почувствовала, что зачала ребенка! Ее лицо так и сияло!» [2, с. 348]. При этом она полностью игнорирует изменения в поведении мужа, который, очевидно, догадывается об измене: «Почему он всегда так задумчив? Почему он не радуется как раньше?» [2, с. 350]. Эти вопросы, задаваемые самой себе, так и остаются без ответа – Шолпан не способна к подлинной рефлексии и эмпатии.
Как отмечают психологи Зарубин и Вагин, воля, движимая низменными страстями, теряет свою истинную силу и значимость, превращаясь в слепое стремление к обладанию [3, с. 20–21]. Именно такая искаженная воля, лишенная нравственного основания, вела Шолпан по пути саморазрушения, определяя весь трагический ход ее судьбы. С философской точки зрения, страсть Шолпан лишена нравственного положительного начала. Вместо стремления к гармонии или саморазвитию, ее желания носят разрушительный характер, подчиняя разум эгоцентричным импульсам. Это противоречит классическим философским представлениям о страсти как движущей силе, которая может быть облагорожена разумом.
Финал повести символичен – формальное «очищение» сорока ведрами воды не приносит Шолпан духовного прозрения. Ее последние слова («Где мой ребенок? Почему этот… не придет?» [2, с. 355]) в контексте недавнего авторского пересказа ее мыслей: «видимо, поскольку Азимбай – отец ее ребенка, она не должна порывать с Азимбаем. Возможно, это даже не грех. Если Сарсенбай ей – законный супруг, то Азимбай – отец ее ребенка», «Пропади все пропадом! Проклятье ребенку в животе, изгадившему ее жизнь!..» – свидетельствуют о том, что даже перед лицом смерти она остается пленницей собственных страстей.
Шолпан не может быть одной, отсюда ее цепляние за мужа, затем за идею ребенка, потом за Азимбая. Ее «любовь» – лишь привязанность к тому, кто заполняет ее экзистенциальный вакуум. Ее поведение носит компульсивный характер: от молитв – к знахарям – к измене. Это цепь попыток заглушить тревогу, но даже беременность не приносит ей покоя – она лишь переносит зависимость на Азимбая. В современном мире, где страсти часто романтизируются, повесть Жумабаева – предостережение о подмене любви эгоистичным вожделением.
«Любовь» Шолпан есть эгоцентричная иллюзия, ее вера – магический ритуал, ее материнство – отчаянная попытка убежать от одиночества. Если бы она действительно любила мужа, а не свое состояние рядом с ним, то спросила бы его о детях, приняла бы его радость за чистую монету, не пошла бы к знахарям, а доверилась Богу и мужу. Не имея духовной и психологической опоры, Шолпан попала в ловушку страстей и потеряла все. Она не знала мужа по-настоящему. Ее «любовь» – это монолог.
С другой стороны, автор повести оставляет открытым для размышлений читателя вопрос поведения других действующих лиц. Однако имплицитная оценка автором повести этого поведения выглядит, по мнению автора статьи, достаточно прозрачно. Очевидно, автор описывает период распада традиционных отношений. Большая совокупность родственников, свойственников (род, расширенная семья) уже не настолько в курсе дел друг друга, как ранее. Они не предотвращают поступок Шолпан и Азимбая, хотя накануне Азимбай прямо говорит: «Женгешка, неужели я зря обхаживаю вас вот уже три года?» То есть в роду нет никого настолько близкого, чтобы предупредить мужа о попытках флирта со стороны Азимбая. (Или они на этой стадии распада традиционного общества уже не видят во флирте ничего предосудительного, отсутствие резкой реакции Шолпан на флирт никого за эти три года не настораживает.) Более того, общество, очевидно, уже не воспитывает в людях нормальность присматривания мужем и его, скажем так, доверенными лицами за женой и ее окружением. Общество достаточно развращено, как оправдывает это одна из действующих лиц второго плана: «это же все по молодости». Сам муж в повести («...вон уже полгода позоришь мое доброе имя!») не имеет никакого готового традиционного решения для ситуации, так как до полугода размышляет, что же делать, после того как узнал об измене (или обоснованно заподозрил измену) со стороны Шолпан. Всё это время муж не пытается прояснить ситуацию или прекратить разврат. О каких-то общественных санкциях по отношению к Азимбаю в повести даже не поднимается вопрос. А затем автор повести показывает, что муж и другие окружающие по сути дела своими самосудными поочередными действиями убивают и женщину, и ребенка: «Постепенно кровь в ее теле превращалась в лед».
Таким образом, анализ повести «Грех Шолпан» позволяет сделать несколько важных выводов. Во-первых, так называемую «любовь» Шолпан к мужу предоставляется возможным рассмотреть как эгоцентричную привязанность к собственному эмоциональному состоянию. Во-вторых, ее поведение демонстрирует классический пример того, как страсть подменяет собой моральные ориентиры и разрушает личность. В-третьих, трагедия Шолпан заключается не столько в самом факте измены, сколько в неспособности к подлинным чувствам и духовному росту, что делает эту историю актуальной и по сей день.
Список литературы:
- Делис Д., Филлипс К. Парадокс страсти / Пер. В. Горохова. М.: МИФ, 2023. – 448 с.
- Жумабаев М. Прегрешение Шолпан // Исповедь / Пер. и прим. А. Кодара. Петропавловск, 2011. – 378 с.
- Зарубин А., Вагин В. Репутация – капитал личности. М.: Априком, 2007. – 212 с.
- Коран. Арабский текст и русский перевод / прим. Хазрата Мирзы Тахира Ахмада. Islam International Publications Limited, 2006. – 1015 с.
- Кайралапова С.К. Переводческая трансформация концепта «грех» в произведении М. Жумабаева «Грех Шолпан» // Вестник КазНУ. Серия филологическая. 2015. №2 (154). – С. 388
- Менделевия В. Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. — СПб.: Речь, 2005. – 445 с.
дипломов
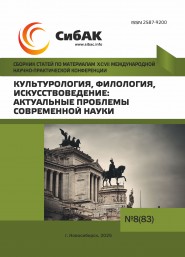

Оставить комментарий