Статья опубликована в рамках: XCIX Международной научно-практической конференции «Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки» (Россия, г. Новосибирск, 08 октября 2025 г.)
Наука: Искусствоведение
Секция: Теория и история искусства
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ОТОБРАЖЕНИЕ АРХЕТИПА ДРЕВА ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается феномен архетипа Мирового Древа («Дрэва жыцця») в изобразительном искусстве Беларуси конца XX – начала XXI веков. Опираясь на анализ живописных, скульптурных и декоративно-прикладных работ Анатолия Барановского, Валерия Шкарубо, Георгия Скрипниченко, Бориса Казакова, Леонида Щемелева, Камиля Камала, Людмилы Горовой и Ивана Казака, автор выявляет основные типы художественных интерпретаций архетипа: лирико-импрессионистический, медитативно-экзистенциальный, символико-аллегорический, трагико-мемориальный и интегративно-декоративный. Показано, что образ Древа выступает центром семантической организации произведений, связывая культурную память, личный художественный язык и актуальные социально-исторические контексты.
Ключевые слова: Мировое Древо, архетип, белорусское искусство, национальная идентичность, символизм.
Введение. Архетип Мирового Древа – универсальная мифологема, объединяющая земное, подземное и небесное уровни мироздания. В белорусской традиционной культуре мотив «Дрэва жыцця» закрепился в вышивке, ткачестве, вытинанке и резьбе, символизируя плодородие, преемственность поколений и сакральный центр пространства. С переломом культурной парадигмы в конце XX в. художники обращаются к архетипу не только как к этнографическому коду, но и как к гибкому метафорическому устройству, способному артикулировать личные и коллективные переживания эпохи пост-соцреализма, экологические тревоги и запрос на духовную устойчивость. Цель статьи – проследить эволюцию образа Древа Жизни в современной белорусской живописи и скульптуре, выявив основные формы его актуализации.
Понятие «архетип» Карл Густав Юнг ввел для обозначения врожденных психических матриц, заложенных не в отдельной личности, а в «общем хранилище опыта» – коллективном бессознательном. Эти первообразы, по Юнгу, сформировались на протяжении всей истории Homo sapiens как эволюционный инструмент выживания и адаптации: одни схемы помогали распознавать опасность, другие – налаживать связи внутри сообщества, третьи – придавали смысл неизбежным жизненным кризисам. Архетипы не копируют конкретные события личной биографии и не принадлежат рациональной сфере; они проявляются полу-осознанно, «всплывая» во снах, мифах, сказках, художественных образах и религиозных ритуалах, когда индивидуальное сознание соприкасается с более глубинным пластом психики, в котором заключена аккумулированная мудрость предков [1, с. 73].
Одним из самых устойчивых и древних таких первообразов является символ Древа жизни, часто интерпретируемый как мировое древо или axis mundi. Этот образ объединяет три уровня космоса: ветви, устремленные к небесам, воплощают сферу богов и идеальных начал; могучий ствол соответствует обитаемому земному миру, а разветвленная корневая система уходит в подземное царство предков и духов. Подобная схема одновременно подчеркивает вертикальную иерархию мироздания и неразрывную связанность всех его частей. В эпосе «Калевала» речь идет о могучем дубе, закрывшем свет; у скандинавов роль мирового дерева играет ясень Иггдрасиль, удерживающий девять миров; в славянской традиции встречается тополь или дуб-колоколец, на ветвях которого сидят светлые птицы, а у корней – источники живой воды. Сходные мотивы прослеживаются и в шумерских, и в мезоамериканских мифах, что подчеркивает универсальный характер символа. Именно универсальность побудила филолога-компаративиста В. Н. Топорова рассматривать практически любую культурную репрезентацию дерева как отсылку к мировому древу [2, с. 398]. В такой трактовке дерево выполняет функцию «сшивки» противоположностей: верх – низ, жизнь – смерть, обновление – увядание. Эта динамическая модель отражает идею бесконечного кругооборота и взаимопроникновения форм бытия: лист опадает, разлагается, питает корни, а из корней рождается новая поросль. Именно поэтому символика Древа жизни ассоциируется с бессмертием души, преемственностью поколений и неуничтожимостью самой энергии жизни.
Белорусская визуальная традиция наследует двум взаимодополняющим линиям. Первая – фольклорно-утилитарная, где дерево выступает орнаментальной схемой («родовое древо» в рушниках). Вторая – книжно-христианская, вводящая образ Древа Креста и райского Древа Познания. Современные художники творчески синтезируют обе парадигмы, придавая древнему символу новые смыслы: экологический – единство человека и природы, экзистенциальный – вертикаль как метафора времени и памяти, социально-исторический – дерево как свидетель травматического опыта XX в.
Поэтика белорусского художника Анатолия Барановского обретает завершенность в тот момент, когда пейзаж перестает быть описанием местности и превращается в медитацию о соразмерности человека и космоса. В ранних полотнах, таких, как «Земля моя золотых берез» (1981) вертикаль березовых стволов образует своеобразный «лес-собор»: каждая серебристо-охристая колонна тянется вверх, поддерживая купол небесного света. Импрессионистический, дыхательный мазок подчеркивает мерцание коры, а светотеневая каскадность создает ощущение, будто воздух внутри картины пульсирует собственным ритмом. Во «Времени осенних берез» (1993) художник углубляет тему границы между мирами: стволы словно вырастают из предрассветной дымки, и мягкий переход от теплой охры основания к холодному жемчужному свечению кроны буквально рисует путь души снизу вверх. В пейзажах цикла Браславщины – «Цветы Браславщины» (1991) и «Браславский простор» (1991–1992) художник минимизирует лишние детали, оставляя вибрацию белых стволов и сетку полуразмытых цветовых акцентов. Вертикаль березы удерживает композицию и, одновременно, воплощает архетипическое древо: корни, едва намеченные темным подмалевком, присоединяют зрителя к родовой памяти; ствол фиксирует земное «сейчас»; размытая крона растворяется в небе, намекая на будущность. Оттого любая работа А. Барановского читабельна как визуальная мантра, где «цвет земли» и «свет неба» сходятся в точке тихого равновесия.
У Валерия Шкарубо мировое древо обретает минималистскую, почти аскетичную форму. В пейзаже «Туман» (1987) тонкий оголенный ствол выступает единственной твердой линией на фоне молочно-серой вуали; его нижний сегмент растворен во влажном воздухе, напоминая о неразличимом прошлом, тогда как верхняя часть, уходящая в бесцветное небо, метит контур непостижимого «потом». В «Дороге» (1989) вертикаль деревьев балансирует диагональ проселочной колеи: горизонт движения человека сталкивается с неподвижной осью космоса, и именно это напряжение рождает почти аудиальное чувство тишины. А в позднем полотне «Деревья» (2013) сгущенная до монохрома палитра заставляет видеть не натуру, а ее «рентген»: графическую схему ствол-ветвь, где каждое ответвление – это возможный ход времени. В. Шкарубо сознательно избегает яркой цветности, чтобы вместо живописного эффекта дать зрителю опыт замедленного взгляда; растворенные контуры, мягкие лессировки и отсутствие фигуративного «шумового» слоя превращают дерево в метафору трансцендентного дыхания мира.
В середине 1980-х годов белорусская живопись переживает сдвиг от «реалистического пейзажа» к многоуровневым символическим конструкциям. Так, у Бориса Казакова дерево обретает вид обугленного тотема, через который художник озвучивает травмы XX века. В работе «Собрание» (1980) – почерневший, будто выжженный ствол разрезает холст на «до» и «после». Внизу – сгрудившиеся фигуры людей, наверху – тяжелое свинцовое небо. Вертикаль-уголь одновременно фиксирует драму момента и превращается в символ катаклизма, чья энергия расщепляет пространство. Триптих «Пейзаж XX века. Дороги, по которым никто не ходит» (1988–1992) – серия полотен, где деревья-тени стоят на треснувшей земле, а небо вспыхивает то багряными, то черными массами. Триптих задает впечатление ритуального пожара: старый мир догорает, оставляя возможность для очищения и нового роста. Б. Казаков оборачивает архетип в обратную сторону мифа: мировое древо здесь переживает фазу гибели, но остается опорой небесного свода.
Белорусский образ Древа Жизни достигает наиболее пронзительного звучания там, где личная лирика художника сталкивается с исторической травмой. У Леонида Щемелева и Ивана Казака эта точка пересечения становится основой трагико-мемориального пласта: дерево превращается в памятник, вбирающий боль ХХ века, но одновременно удерживающий надежду на возрождение. В картине «Тепло земли» (1989) Л. Щемелев выводит посреди белой равнины исполинское дерево-факел. Его крона, пульсирующая рубиновыми и охристыми мазками, словно пробивает ледяную тишину зимы, являя скрытую энергию родной земли. Вертикаль устремленного ствола связывает два космоса: ниже – безмолвие заснеженного поля, выше – прозрачная лазурь морозного неба. На переднем плане стоит фигура одинокого путника-свидетеля. Он обращен к светящейся кроне, будто ищет духовный ориентир в эпоху позднесоветской неопределенности. Л. Щемелев сознательно обостряет контраст между холодной палитрой окружения (цианотичные рефлексы, свинцовистые тени) и жаркой цветовой вспышкой дерева: это поэтическое столкновение холода и тепла, отчуждения и надежды.
Дерево здесь выполняет несколько функций: мемориал – напоминает о жизненной силе народа, пережившего войны и репрессии, ось мира – соединяет землю-память, человека-современника и восходящий духовный горизонт, обещание обновления – огненная крона символизирует грядущее весеннее пробуждение, аналог перемен конца 1980-х. Так, «Тепло земли» превращает привычный зимний пейзаж в многоплановый реквием о прошлом и одновременно – в гимн внутреннему ресурсу возрождения.
Скульптурный проект «Древо жизни» (2021–2025) Ивана Казака переносит архетип в публицистически-мемориальное измерение. Запланированный как памятный знак жертвам уничтожения белорусского населения в годы Второй мировой войны, объект вырастает из земли чередой переплетенных человеческих рук и силуэтов. Корневая зона – ладони, вырывающиеся из почвы, аллюзия на тех, кто ушел «в землю» и чьи судьбы питают память нации. Ствол – вертикальный рост рук-тел; вычеканенные складки поверхностей напоминают потрескавшуюся кору. Ствол фиксирует коллективный крик, но одновременно держит форму, утверждая несломленность. Крона – слегка раскрытая чаша ветвей-пальцев, на вершине которой автор планирует разместить стилизованную птицу-феникса. Это уже не траур, а проект будущего: феникс как знак перерождения над обугленными ветвями. Материалом выбран бронзовый сплав с темнокоричневой патиной и редкими подсветками теплого медного отблеска в нишах ладоней. Такое решение создает эффект тлеющих углей – визуальную перекличку с казаковским «обугленным» живописным языком: память горит, но и согревает. Скульптура рассчитана на круговой обход: зритель видит, как из каждой новой точки отдельное движение руки складывается в общий восходящий поток. Внизу читается «раненое» Древо, вверху – прорастание надежды.
Таким образом, архетип Древа Жизни остается ключевым кодом белорусской визуальной идентичности. Современные художники используют древний символ как эстетический каркас, обеспечивающий целостность композиции в условиях минимализма или фрагментации, как медиатор памяти, включая коллективные травмы в культурный ландшафт, как этико-экологический маркер, подчеркивающий ответственность человека перед природой. Тем самым «Дрэва жыцця» служит динамичным мостом между традицией и актуальностью, доказывая способность архаичных образов к неограниченной семиотической регенерации.
Список литературы:
- Топоров, В.Н. Древо Мировое // Мифы народов мира : Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. – М. : Советская энциклопедия, 1987. – Т. 1 : А–К. – С. 398–406.
- Юнг, К. Г. Очерки по психологии бессознательного : пер. с англ. / К.Г. Юнг. – М. : Cogito-centre, 2006. – 350 с.
- Пастернак, Т. Композицию «Древо жизни» витебского скульптора Ивана Казака установят сразу в нескольких городах Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vitvesti.by/kultura/kompozitciiu-drevo-zhizni-vitebskogo-skulptora-ivana-kazaka-sobiraiutsia-ustanovit-srazu-v-neskolkikh-gorodakh-belarusi.html. (дата обращения: 18.01.2025).
дипломов
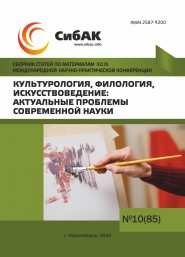

Оставить комментарий