Статья опубликована в рамках: XCV Международной научно-практической конференции «Современная психология и педагогика: проблемы и решения» (Россия, г. Новосибирск, 16 июня 2025 г.)
Наука: Педагогика
Секция: Педагогическая психология
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
АКТИВНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДВУЯЗЫЧНЫЕ ЗНАНИЯ
ACTIVE LEXICAL REPRESENTATIONS AND THEIR EFFECT ON BILINGUAL KNOWLEDGE
Carlos Inchaurralde Besga
Candidate of Philosophy, Assistant Professor, State University of Aerospace Instrumentation,
Russia, Saint Petersburg
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается особая модель знаний, участвующих в человеческой коммуникации, которая становится еще более понятной, когда мы смотрим на нее в том виде, в котором она используется билингвами. Некоторые исследования показывают, что память билингвов организована как единый распределенный лексикон, а не как два отдельно доступных лексикона, соответствующих каждому языку. Существуют эмпирические нейролингвистические данные, подтверждающие этот подход и проливающие свет на то, как его можно использовать для моделирования многоязычного знания.
ABSTRACT
This article discusses a particular model of knowledge involved in human communication, which becomes even clearer when we look at it as it is used by bilinguals. Some studies show that bilinguals' memory is organized as a single distributed lexicon rather than as two separately accessible lexicons corresponding to each language. There is empirical neurolinguistic data supporting this approach and shedding light on how it can be used to model multilingual knowledge.
Ключевые слова: билингвизм, энциклопедические знания, лексикон, словарный запас, когнитивная лингвистика.
Keywords: bilingualism, encyclopedic knowledge, lexicon, vocabulary, cognitive linguistics.
1. Слова как психологические сущности
В настоящее время в лингвистической среде идет дискуссия о том, как относиться к лексическому значению. С одной стороны, мы имеем дело с более традиционной точкой зрения, согласно которой в словарной статье должна быть описана наиболее важная часть семантической и грамматической информации, связанной со словом. Против этого выступает "энциклопедическая" точка зрения, согласно которой значение слов не может рассматриваться изолированно, а связано со всем большим массивом знаний о мире. Последняя концепция согласуется с имеющимися нейролингвистическими данными и является общепринятой среди когнитивных лингвистов [10].
Однако сначала следует признать, что первая точка зрения имеет под собой определенные основания, как с интуитивной, так и с научной точки зрения. Слова могут обрабатываться по отдельности, и многие особенности их психолингвистического поведения легко объясняются, если мы рассматриваем существование упорядоченного ментального списка лексических единиц. В научной литературе мы можем найти несколько явлений, которые обычно происходят в экспериментах, связанных с использованием словарного запаса: более частотные слова, как правило, распознаются раньше и запоминаются легче; псевдослова, которые фонетически или графически похожи на настоящие слова, обычно отвергаются дольше; определенные слова-стимулы влияют на время реакции, связанное с другими словами; и случаи, в которых возникает лексическая двусмысленность в той или иной форме, очень многочисленны [9, С. 99]. В связи с последней проблемой - разнообразием значений - с нейролингвистической точки зрения был поднят интересный вопрос: активируем ли мы все значения слова, когда возникает двусмысленность, или активируем только одно значение, определяемое контекстом? Согласно так называемым интерактивным моделям [14, 17], каждое слово представлено в лексиконе устройством, чувствительным к определенному типу информации, причем эта информация поступает как из акустико-сенсорного канала, так и из лингвистического контекста. Распознавание лексических единиц происходит в форме соревнования, в котором различные записи одновременно подвергаются кумулятивной активации, пока количество активации одной из них не превысит определенный предел и она не будет выбрана. В противоположность этому подходу мы имеем автономные модели, в которых исчерпывающий процесс поиска осуществляется в ментальном списке. Форстер [4] рассказывает, что лексическая идентификация проходит в два этапа: сначала перцептивная репрезентация стимула сравнивается с его фонологической или графической репрезентацией. После того как слово найдено, на втором этапе происходит поиск семантической и синтаксической информации в большой ментальной базе данных.
И интерактивный, и автономный подходы могут объяснить описанные выше явления. Эффекты частоты могут быть объяснены интерактивными моделями в терминах различных уровней активации, которых могут достигать лексические единицы. Автономные модели, с другой стороны, объясняют их тем, что наиболее часто встречающиеся слова появляются первыми в мысленных списках. Эффекты облегчения работы с другими стимулами могут быть объяснены взаимодействием, которое также может происходить после доступа к ментальному списку, постулируемого автономными моделями. Время, затрачиваемое на отбрасывание псевдослов, может быть объяснено с точки зрения времени, необходимого для исчерпывающего поиска в ментальных списках.
Как следствие, мы также сталкивались с моделями, являющимися продуктом комбинации этих двух взглядов [13]; но, в любом случае, нам важно подчеркнуть, что слова четко идентифицируются как единицы, и поэтому вполне объяснимо, что существует представление о лексической информации как о чем-то "содержащемся", "хранящемся" в словах.
2. Виды значения
Однако эта информация, "заключенная" в словах, имеет множество различных форматов и может быть очень сложной. Лингвисты обычно проводят различие между денотацией и коннотацией. Денотация связана с "отсылкой" к миру и представляет собой своего рода "объективное" значение. Коннотация же относится к "субъективному" типу значения, связанному с оценочным содержанием слов.
Денотативное значение связано со знаниями, которые определенным образом хранятся в нашем сознании. Когнитивная психология исходит из того, что в нашей памяти существуют различные типы хранения информации. Вся постоянная информация хранится в долговременной памяти, в отличие от кратковременной, которая хранит полезную информацию только в течение короткого периода времени. В долговременной памяти есть два разных типа: эпизодическая память (связанная с конкретными ситуациями, в которых участвовал субъект) и семантическая память (память, не связанная с конкретной ситуацией, в которой хранятся общие знания обо всем, что происходит в мире). Взаимодействуя с реальностью, дети усваивают лексику функционально, в процессе ее использования в конкретных ситуациях [15]. Это заставляет эпизодическую память хранить информацию, которая служит для создания сетей знаний, присутствующих в семантической памяти. Фактически, чем больше испытуемый сталкивается с различными проявлениями денотативного значения слова, тем более четко оно закрепляется в его ментальных репрезентациях. В этой связи уместно провести различие между когнитивным расширением и когнитивным интенцией [7]. Когнитивное расширение относится именно к приобретению смысла через опыт. Когнитивная интенция, с другой стороны, относится к тому способу, которым лексика приобретается в процессе формального обучения, через определения, которые в сжатой форме суммируют значение термина. Именно таким образом обычно приобретается значение лексики, связанной с узкоспециализированными дисциплинами. Однако в повседневном употреблении лексика обычно приобретается в процессе взаимодействия с окружающей средой, экстенсиональным способом.
Традиционные подходы к лексическому значению были интенсиональными, основанными на модели достаточных и необходимых признаков. Такая трактовка была характерна для структуралистских моделей. Но после появления "теории прототипов", разработанной психологом Элеонорой Рош и ее сотрудниками, взгляд современной лингвистики на лексику радикально изменился [6]. Значение больше не состоит из дискретных, достаточных и необходимых признаков, а имеет более диффузную структуру.
Однако это не означает, что лексика неструктурирована. Напротив, она имеет характерную структуру. Вокруг центрального значения тяготеет целое созвездие различных смежных значений, во многих случаях возникающих благодаря процедурам расширения значения, которые могут быть метонимическими (например, слово голова в "У него хорошая голова", обозначающими интеллектуальные способности), метафорическими (например, горлышко в "Горлышко бутылки") или основанными на процессах генерализации (например, школа как поток мысли в сравнении со школой как институтом обучения) или специализации (например, школа для обозначения специального курса). Все связанные таким образом значения могут составлять то, что называется радиальной сетью. Помимо радиальных сетей у нас есть и другие типы конфигураций [3]. Существуют определенные смысловые структуры, которые создают проблемы, если их представить в виде сетей. Так обстоит дело со смысловыми спектрами, в которых существует связь между смежными значениями, но не между концами серии связанных значений. Аналогично, семантические сети могут быть представлены пересечениями наборов признаков, представляя собой отношения "семейного сходства" [3, с.73].
Такой способ представления значения, основанный не на накоплении определенных семантических признаков, а на отношениях, устанавливаемых между значением одних терминов и других, и устанавливающий диффузную структуру уровней "прототипичности", показывает, что значение не структурировано в "ящиках" содержания, а распределено в разных направлениях внутри лексических единиц. Таким образом, значение имеет "распределенную природу".
Распределенная природа значения охватывает не только "объективные"знания о мире, денотативные, но и применима к коннотативным значениям. Осгуд [16] доказал, что оценка в терминах "хорошо/плохо" является, возможно, самым важным фактором в коннотации многих слов. По мнению этого автора, оценочное значение, которое мы придаем вещам, эквивалентно индивидуальному отношению, проявляющемуся в лексическом выборе, и это отношение можно измерить. В его экспериментах испытуемые должны были присвоить значения образцу лексики, используя различные шкалы прилагательных. Проведя факторный анализ полученных результатов, Осгуд смог сделать вывод о наличии трех основных измерений: оценки, власти и активности. Процедура факторизации, использованная этим автором, выявила и другие измерения, но их значения были слишком малы, чтобы считать их значимыми. В любом случае, оценочное измерение, то есть то, которое присваивает значения в терминах "хорошо" или "плохо", выделялось на фоне остальных. Из этого можно сделать вывод, что данное измерение является основополагающим элементом коннотативного значения слов.
Наряду с этим типом коннотативного значения у нас есть культурное знание об определенных культурных ценностях, связанных с определенными словами, которые поэтому трудно перевести. Эти культурные знания также могут включать в себя множество денотативных элементов [8, 11]. В любом случае, все эти типы значения, по-видимому, конфигурируются не в соответствии с достаточными и необходимыми признаками, а в соответствии с распределенной природой, характерной для лексического значения.
3. Специализированная лексика
В рамках проблемы знаний, связанных с лексическими единицами, мы также должны упомянуть проблему разграничения различных уровней экспертных знаний в конкретных областях одного и того же языка или двух разных языков, или то, что было названо различием между "народными категориями" и "экспертными категориями" [18, с.72]. Нормальные носители языка идентифицируют объекты мира с помощью "стереотипов", которые основаны на наших знаниях о перцептивных и интерактивных атрибутах, присутствующих в конкретных случаях. В то же время существуют группы экспертов, для которых те же объекты или понятия определяются более научным и экспертным способом. Известен пример с термином "кит" в популярных таксономиях и "кит" в научной биологической таксономии. В популярной таксономии кит - это вид "рыбы", а в биологии - всегда млекопитающее. Сегодня каждый грамотный человек знает, что кит - это млекопитающее, хотя в идиоматических выражениях и популярном употреблении термина он может иметь статус рыбы. Этот вопрос еще более актуален при использовании некоторых терминов в специализированных областях, так как может оказаться, что пользователи языка не знают о специальном значении, пока оно не будет явно доведено до их сведения. Важность точных формулировок в науке, юриспруденции и других дисциплинах отводит определениям очень важную роль. В научной сфере любая дискуссия нуждается в четком определении используемых терминов, иначе ученые могут в итоге обсуждать разные вещи. В языке юриспруденции термины, важные для применения определенных законов, должны быть четко определены, поскольку в противном случае такие законы будут иметь множество толкований, и споры будет трудно разрешить.
Во многих случаях существуют термины, наполненные культурным смыслом, которые трудно перевести. Когда эти термины относятся к специализированным областям, термин сохраняется, хотя во многих случаях предпринимается попытка адаптировать его произношение к произношению нового языка, который его принимает. Одной из областей с высокой степенью специализации, несмотря на то, что это область повседневного опыта, является кулинария. Здесь мы можем найти такие лексические единицы, как "спагетти", "суши" и другие, возникшие в других языках и не имеющие возможности перевода, поскольку они соответствуют узкоспециализированной и культурно обусловленной области. Это пример специализации на нескольких языках одновременно, но мы находим области, которые в одних языках более специализированы, чем в других. Так, например, обстоит дело в области компьютерных наук, где большая часть исследований, коммуникаций и международного маркетинга в этой специализированной области осуществляется с использованием английского языка в качестве инструментального языка. Аналогичным образом, другие области, такие как экономика, торговля, технологии и научные области в целом, полны английских выражений. Слово "маркетинг" сегодня является общепризнанным термином и даже утратило свой статус лексической единицы экспертной области, перейдя в общий язык. В противоположность этому есть и другие термины, которые используются в очень ограниченной специализированной области (например, использование "аутсорсинга" в деловом жаргоне).
Иностранные слова из специализированных областей обычно подвергаются некоторой фонетической, а иногда и графической адаптации к формальным особенностям языка перевода. Это становится еще более очевидным, когда специализированная область представляет собой целую культурную область. Ярким примером такого явления является японский язык, язык с пятью гласными, с ограничениями в использовании закрытых слогов (только те, которые оканчиваются на "н") и с уменьшенным количеством согласных. В этом языке очень часто встречаются заимствования из английского. Например, "дзуусу" - сок, "коохи" - кофе, "фоку" - вилка, "саккаа" (из англ. soccer) - футбол и т. д.
Но в этих случаях новые термины включаются в язык. Иногда конкретная дисциплина настолько зависит от конкретного языка, что недостаточно просто включить часть лексики в новый язык. Вспомните, например, компьютерную науку, где скорость, с которой развивается эта дисциплина, и ее очень динамичный характер делают целесообразным изучение и работу с ней на ее самом распространенном языке, которым является английский. Это подводит нас к рассмотрению различных типов знаний, связанных с разными языками. Для преподавателя языка эта ассоциация является адекватной поддержкой при изучении нового языка. Именно, подходы, основанные на задаче, подчеркивают тот факт, что при выполнении заданий определенной интеллектуальной сложности на новом языке языковая система лучше усваивается, поскольку происходит переход от интереса к форме к интересу к содержанию, а форма, в которой выражается это содержание, создается индуктивно, до очень высокой степени овладения изучаемым языком.
Однако наша основная линия аргументации идет в другом направлении: знание формы помогает использовать новое содержание. В любом случае, оба направления, от содержания к форме и от формы к содержанию, можно рассматривать как действующие одновременно, и вопрос о направленности этой последовательности не так важен, как то, как несколько языков и несколько типов знаний, связанных с ними, могут сосуществовать в виде большой общей семантической сети.
4. Двуязычные знания
Именно поэтому важный вопрос заключается в том, должны ли мы рассматривать отдельные сети или единую сеть. Факты свидетельствуют о том, что подходящей моделью является единая сеть, поскольку существуют доказательства того, что разные языки мешают друг другу в языковом общении двуязычных людей [1]. Можно предпринять попытки объяснить интерференцию на основе интерактивных активационных моделей [12]. Однако такие модели, хотя и основаны на коннекционистской парадигме, не подходят для обучения. Френч [5] продемонстрировал, как распределенная коннекционистская архитектура (в отличие от локалистской модели МакКлелланда и Румельхарта), способная к обучению, может воспроизводить эффекты интерференции, сходные с теми, что наблюдаются у реальных испытуемых. В ней использовалась простая рекуррентная коннекционистская сеть (SRN) для создания соответствующей среды моделирования [5, с. 368]. Эта сетевая модель показывает определенные особенности (она постепенно развивает скрытые представления, группирующие грамматические формы и различные языки, она демонстрирует эффекты межъязыковой интерференции, она очень устойчива к повреждениям, а внутренняя дезорганизация, которую она демонстрирует в некоторых случаях, вызвана только поражением некоторых очень специфических узлов), и это совпадает с лексическим поведением, наблюдаемым у двуязычных испытуемых.
Эксперимент, предложенный Френчем [5, с. 369], основан на двух искусственных микроязыках, названных Альфа и Бета, состоящих из следующих элементов:
Альфа
Существительные (S): BOY, GIRL, MAN, WOMAN
Глаголы (V): LIFTS, TOUCHES, SEES, PUSHES
Существительные (O): TOY, BALL, BOOK, PEN
Бета
Существительные (S): GARCON, FILLE, HOMME, FEMME
Глаголы (V): SOULEVE, TOUCHE, VOIT, POUSSE
Существительные (O): JOUET, BALLON, LIVRE, STYLO
С помощью словарного запаса этих двух микроязыков формировались предложения с грамматической структурой SVO (Субъект - Глагол - Объект). Программа генерировала последовательности допустимых предложений и случайным образом меняла микроязыки (до тех пор, пока предыдущее предложение не было завершено). Полученный текст поступал в нейронную сеть, которая, получив 20 000 предложений (6 000 слов), училась формировать группировки по языковым и грамматическим категориям. После периода обучения Френч заметил, что повреждение различных узлов сети не влияет на ее общее поведение. Это похоже на то, что происходит с травмами мозга у билингвов: в целом они не приводят к потере способностей к одному языку или смешению разных языков. Однако есть несколько очень редких, специфических случаев, в которых эти эффекты могут проявиться. В моделировании это явление также происходило в некоторых конкретных случаях после удаления узла из сети.
Еще одно явление, наблюдаемое при совпадении реальной и моделируемой моделей, - снижение гомографического прайминга [5, с. 371]. При использовании кросс-лингвистических омографов (например, "fin" во французском и "fin" в английском) в двуязычной среде прайминг гораздо меньше, чем в моноязычной. Подобную ситуацию пытались эмулировать с помощью нейронной сети, использованной Френчем, и аналогичные эффекты наблюдались при использовании псевдослов, которые было трудно отнести к альфа- или бета-группе [5, с. 371-372].
Что касается вопроса о том, может ли модель, предложенная в этом эксперименте, быть расширена и обобщена на более крупные словари, она была протестирована на 1536 словах (256 на категорию) с использованием той же простой грамматики SVO [5, с. 372]. Результаты оказались аналогичны эксперименту с меньшим словарным запасом. По-видимому, нет причин, по которым те же результаты не могли бы быть получены при гораздо большем словарном запасе. Похоже, что модель обладает некоторой степенью обобщенности, что позволяет использовать ее для поддержки нашего аргумента о том, что нам не нужны две сети для представления двуязычного словаря. Действительно, эта коннекционистская модель, основанная на распределенной нейронной сети, может довольно хорошо воспроизводить определенное поведение разума, который "думает" на двух языках, что равносильно предположению, что хранение и использование двуязычных знаний возможно таким образом; и большая нейронная сеть должна позволить нам, при соответствующем обучении, записывать мультидисциплинарные знания на двух или более языках. Проблема идентификации лексики может быть легко поставлена с точки зрения пересечения признаков, определяющих лексику как черты, в соответствии с традиционной концепцией лексического значения. С другой стороны, концептуальные связи между терминами будут устанавливаться самой сетью, и именно она, внутренняя и непрозрачная для внешнего пользователя, будет поддерживать соответствующие связи между узлами.
5. Заключение
Лексическое значение далеко не всегда имеет единственный способ репрезентации. Как мы видели, оно может иметь множество различных способов конфигурации. В этом смысле наилучшей стратегией репрезентации является наиболее гибкая, допускающая явления прототипичности, сходства значений, отношений, конфигурируемых в виде радиальных сетей, связей с общими знаниями о мире или со знаниями культурного типа, оценочного содержания, различных специализированных регистров и т. д. Существование всех этих явлений и тот неоспоримый факт, что знания, а значит, и информация, связанная с лексическими единицами, имеет распределенный характер, заставляет рассматривать коннекционистскую парадигму как подходящую модель для учета этих явлений. Ко всему этому можно добавить, как элемент, который, очевидно, еще больше усложняет ситуацию, возможность связать определенную лексику или определенные употребления лексики с разными языками. Хотя в прошлом были получены некоторые данные о том, что лексика разных языков находится в разных областях мозга, имеющаяся сейчас информация показывает, что даже при использовании двуязычной или многоязычной лексики информация может быть сильно распределена. В этом смысле мы сослались на эксперимент по моделированию, который показывает, как нейронная сеть может имитировать такое поведение. Таким образом, единая сеть для двуязычных знаний оказывается полезной моделью представления для хранения и извлечения связанной с ней информации, и этот факт следует учитывать, чтобы использовать ее в практических приложениях.
Список литературы:
- Алимов, В.В. Интерференция в переводе: На материале профессионально ориентированной межкультурной коммуникации и перевода в сфере профессиональной коммуникации. Изд. 2. Москва: USSR. 2011.
- Богранде, Р. де. Новые основы науки о тексте и дискурсе: познание, комммуникация и свобода доступа к знаниям и обществу. Норвуд, Нью-Джерси: Издательская корпорация Ablex. 1997.
- Крузе, Д. А. Лексическая семантика. Кембридж: Издательство Кембриджского университета. 1986.
- Форстер, К И. Лексическая обработка // Ошерсон, Д. Н., Ласник, Г. (ред.). Язык. Приглашение к когнитивной науке, т. 1. Кембридж: Брэдфорд-М.И.Т. Пресс. 1990. С. 95-131.
- Френч, Р. М. Простая рекуррентная сетевая модель двуязычной памяти // Материалы двадцатой ежегодной конференции Общества когнитивной науки. Нью-Джерси : LEA. 1998. С. 368-373.
- Гираертс, Д. Диахроническая семантика прототипов: вклад в историческую лексикологию. Оксфорд: Кларендон Пресс. 1997.
- Инчаурральде Бесга, К. К интегральной модели семантического представления: некоторые наблюдения // Мартин Виде, К. (ред.). Труды 5-й конференции по естественным языкам и формальным языкам. Барселона: P.P.U. 1989. С. 587-594.
- Инчаурральде Бесга, К. Что стоит за словом. Культурные скрипты // Пютц, Мартин (ред.). Культурный контекст в преподавании иностранных языков. Франкфурт: Питер Ланг. 1997. С. 55-66.
- Инчаурральде Бесга, К. Лексикопедия // Пеетерс, Берт (ред.). Интерфейс лексикона и энциклопедии. Амстердам : Издательство Эльзевир. 2000. С. 97-114.
- Инчаурральде Бесга, К., Васкес, И. Когнитивное введение в язык и лингвистику. Сарагоса : Мира. 2000.
- Инчаурральде Бесга, К. Использование основных английских языковых слов и выражений в ключевых концепциях международных отношений. СПб: ГУАП, 2020.
- МакКлелланд, Дж., Румельхарт, Д. Интерактивно-активационная модель контекстных эфффектов при восприятиии букв, часть 1: Рассказ об основных результатах // Психологическое обозрение 88. 1981. С. 375-405.
- Марслен-Уилсон, У. Д. Функциональный параллелизм в распознавании разговорных слов. // Познание 25. 1987. С. 71-102.
- Мортон, Дж. Распознавание слов // Мортон, Джон ; Маршалл, Джон К. (ред.). Серия "Психолингвистика", т. 2. Структуры и процессы. Лондон : Элек. 1979. С. 107-156.
- Нельсон, К. Обретение смысла. Обретение общего смысла. Нью-Йорк: Академическое издательство. 1985.
- Осгуд, К. Фокус на значении. Том I: иссследования в семантическом пространстве. Гаага : Мутон. 1976.
- Паттерсон, К. Е., Шевеллл, К. Говорить и произносить. Дисссоциациии и эфффект классса слов // Колтеарт, М., Сартори, Дж., Джоб, Р. (ред.). Когнитивная нейропсихология языка. Хиллсдейл: Лоуренс Эрлбаум. 1987. С. 273-294.
- Тейлор, Д. Лингвистическая категоризация. Прототипы в лингвистической теории. Оксфорд: Кларендон. 1989.
дипломов
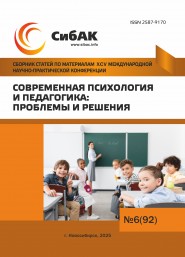

Оставить комментарий