Статья опубликована в рамках: CXVII Международной научно-практической конференции «Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке» (Россия, г. Новосибирск, 29 сентября 2025 г.)
Наука: Педагогика
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ПЕДАГОГИКА ТЁМНЫХ АРХЕТИПОВ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕНЬ
PEDAGOGY OF DARK ARCHETYPES: LITERARY ENLIGHTENMENT THROUGH THE SHADOW
Kristina Teterina
Teacher of Russian language and literature, North Kazakhstan State University named after Manash Kozybaev,
Kazakhstan, Petropavlovsk
АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает педагогический потенциал архетипа Тени в школьном литературном образовании. Через анализ произведений И. А. Крылова и Абая Кунанбаева автор показывает, как культурные тексты могут мягко и безопасно познакомить учеников с тёмными аспектами психики. Такой подход способствует формированию внутренней целостности и эмоциональной зрелости без прямого самоанализа.
ABSTRACT
The article examines the pedagogical potential of the Shadow archetype in school literary education. Through the analysis of the works of I. A. Krylov and Abay Kunanbaev, the author shows how cultural texts can gently and safely introduce students to the dark aspects of the psyche. This approach contributes to the formation of internal integrity and emotional maturity without direct self-analysis.
Ключевые слова: школьное образование, юнгианская психология, архетип Тени, литература.
Keywords: school education, Jungian psychology, Shadow archetype, literature.
Карл Густав Юнг в одном из своих размышлений писал, что человек остаётся для самого себя тайной [4, с. 133]. Эту мысль он не противопоставлял знанию, скорее, он подчёркивал парадокс человеческой природы: мы обладаем сознанием, но не владеем всей полнотой своей психики. Это незнание, вытеснение и страх перед собой и составляет основу архетипа Тени – того, что в нас не признано, отвергнуто, забыто, подавлено или просто ещё не осмыслено. По мнению Юнга, страх перед бессознательным психическим является главным препятствием не только на пути самопознания, но и на пути роста и распространения самого психологического знания. Тень живёт в каждом независимо от возраста, культуры или уровня рефлексии, она не требует веры или концептуального согласия – она действует. Поэтому вопрос не в том, вводить ли архетип Тени в школьную программу. Архетипы не нужно «вводить» – они и так приходят ко всем. Вопрос лишь в том, как помочь школьнику мельком, безопасно, нераскрыто, но ясно увидеть её как возможность будущего узнавания самого себя. Это и есть цель данной статьи – обозначить важность применения подхода, в рамках которого возможно частичное литературное сопровождение через Тень, а не в Тень.
Современное образование часто акцентирует внимание на уже принятых и «светлых» сторонах личности: на доброте, сотрудничестве, рациональности, этике. Однако человек в будущем таким образом может остаться в плену иллюзии моральной цельности, лишённой внутренней глубины и устойчивости перед лицом реальной жизни. В школьном возрасте невозможно говорить о глубокой интеграции Тени. Например, подросток не может устойчиво взаимодействовать с теневыми аспектами своей личности. Его «Я» ещё формируется, его Персона – социальная маска – во многом определяет способ поведения, и любая работа с бессознательным может стать деструктивной, если она чрезмерно прямолинейна или эмоционально давящая. Тем не менее абсолютно необходимо, чтобы школьник имел возможность поверхностно прикоснуться к этой теме. Не для глубокого анализа, не для саморазоблачения, а для того, чтобы в будущем, на новом витке взросления, у него были образы, слова, точки отсчёта, которые позволят ему сказать: «Это я уже где-то слышал». Задача педагога в данном случае – не втягивать ученика в самоисследование, а создать возможность наблюдения, распознавания и осознания как минимум на уровне культурных метафор. Поэтому работа если и будет идти через литературу, кино, поэзию, исторические образы и мифы, то не напрямую, а как бы рядом, через персонажа, через чужой опыт.
К тому же подростки буквально живут в состоянии раздвоенности: между внешним образом и внутренними чувствами, между ожиданиями взрослых и собственными страхами, между потребностью в признании и в протесте.
Тот же мотив двойничества в произведениях – это точка входа в разговор о внутреннем конфликте, тревоге, социальной маске, самоощущении; раздвоенность не «проблема», а универсальный мотив в культуре. Данный мотив в школе нередко распознают чаще только как сюжетную особенность, чем символическое зеркало героя.
Школьник часто не может или не хочет ответить на вопрос о том, что он сам чувствует, но при этом может с интересом размышлять о том, что чувствует герой. Это даёт безопасную дистанцию, необходимую для психологической устойчивости. Через образ литературного персонажа можно коснуться сложных тем: разрушения, страха, вины, проекции, самобичевания.
В первой строфе басни Ивана Андреевича Крылова «Тень и человек» можно неожиданно найти архетипический образ личной Тени:
Шалун какой-то тень свою хотел поймать:
Он к ней, она вперед; он шагу прибавлять,
Она туда ж; он, наконец, бежать.
Но чем он прытче, тем и тень скорей бежала,
Всё не даваясь, будто клад.
Вот мой чудак пустился вдруг назад;
Оглянется: а тень за ним уж гнаться стала. [2, с. 135-136]
Сам Крылов, разумеется, не закладывал юнгианский подтекст в своё произведение, однако текст позволяет провести интересное сопоставление. Он позволяет по-новому взглянуть на образ шалуна и его стремление поймать тень: шалун – это мы сами; тень – буквально и символически наша Тень. Шалун хочет поймать тень, то есть подчинить, контролировать какую-то неуловимую часть себя. Но она всё время ускользает, когда он на неё давит – чем сильнее старается, тем труднее. Когда он вдруг меняет поведение – не преследует, а идёт в другую сторону – Тень сама начинает гнаться за ним.
Это о неуловимости Тени, её ускользающей природе, которая проявляется особенно сильно, когда человек пытается её контролировать или уничтожить. Однако, как только прекращается давление и появляется некое принятие, Тень возвращается и следует за субъектом сама. Эта басня служит очень простым, доступным объяснением архетипа Тени для ученика: без морали, без давления, без «поиска себя» – просто как культурный образ.
Другой пример уже касается не личной, а коллективной Тени. В стихотворении Абая, написанном в период, когда казахский народ начинал терять свою независимость, появляется образ сумерек, удлиняющейся тени, уходящего солнца, тоски и бесприютной памяти:
Көлеңке басын ұзартып
Алысты көзден жасырса
Күнді уақыт қызартып,
Көкжиектен асырса;
Күңгірт көңілім сырласар
Сұрғылт тартқан бейуаққа,
Төмен қарап мұңдасар,
Ой жіберіп әр жаққа.
Өткен өмір – қу соқпақ,
Қыдырады талайды.
Кім алдады, кім таппақ
Салды, соны санайды.
Нені тапсаң, оны тап,
Жарамайды керекке.
Өңкей уды жиып ап,
Себеді сорлы жүрекке.
Адасқан күшік секілді
Ұлып жұртқа қайтқан ой,
Өкінді, жолың бекінді,
Әуре болма, оны қой.
Ермен шықты, ит қылып,
Бидай шашқан егінге.
Жай жүргенді уерд қылып,
Тыныш өлсеңші тегінде. [3, с. 148]
Это стихотворение Абая написано в период, когда казахский народ начал терять свою независимость и попадать под влияние внешней власти. Через образы природы – удлиняющейся тени, краснеющего солнца, исчезающего за горизонтом – поэт выражает тревогу за судьбу своего народа: исчезает ясность, уходит свет, теряется направление. Это метафора общественного и духовного заката. Вместе с тем, такие образы, как «тень» и «исчезающий свет», имеют универсальное значение и в психологии: юнгианский архетип Тени символизирует всё подавленное и вытесненное в человеке, что может заслонять разум и мешать видеть истину. Поэтому, несмотря на то, что стихотворение прежде всего о социально-исторических переменах, его образы можно также использовать, чтобы поговорить с учениками о внутреннем мире человека, о том, как страхи, неосознанные чувства и предубеждения могут «затемнять» наше восприятие – так же, как тень в стихотворении скрывает даль и уносит солнце за горизонт.
Это стихотворение помогает показать школьникам архетип Тени уже не только как личностное, но и как коллективное явление. Тень здесь – образы, в которых отражается состояние всего народа, его духовное смятение и потеря ориентиров. Удлиняющаяся тень, закат, сумерки, тоска, отравленное сердце, обман и сожаление – всё это символизирует темные стороны коллективного сознания, возникающие в обществе, когда оно теряет свободу, цель, единство и веру в себя. Когда общество переживает кризис, как это было во времена Абая, коллективная Тень усиливается: растёт недоверие, разобщённость, пассивность, ослабляется способность к сопротивлению и переосмыслению. Через образ «адасқан күшік секілді» (потерявшийся щенок) Абай словно говорит не только о собственных мыслях, но и о том, как весь народ сбился с пути, мечется, не может вернуться к себе. Это и есть проявление коллективной Тени, когда вытесненные страхи, боли и исторические травмы живут внутри всего сообщества и влияют на его развитие. Обсуждая это с учениками, следует показать, что Тень – это не обязательно что-то злое, это то, что нужно осознать, признать и понять, чтобы выйти из сумерек к свету – как личности, так и целому народу.
Подчёркивая важность таких эпизодических прикосновений к Тени, необходимо отдельно оговорить, что подобное сопровождение должно быть аккуратным, кратким, методически оправданным и ни в коем случае не превращаться в постоянную педагогическую практику. Включение архетипических образов, обсуждение вопросов Тени должно происходить периодически, дозировано, только в тех случаях, когда литературный текст органично это допускает, и в том объёме, в каком это допустимо с точки зрения психолого-педагогической зрелости учеников. Важно обозначить точку входа, а не проводить ученика по всем этапам самоисследования. Исходя из этого, такие примеры, как басня И. А. Крылова и стихотворение Абая Кунанбаева здесь важны не как повод к анализу или интерпретации личных чувств школьника, а как простое, первичное, поверхностное введение в понятие Тени – через образы, понятные возрасту и эмоционально безопасные. Эти тексты не претендуют на глубину – они выполняют функцию первого обозначения: о чём вообще идёт речь, когда мы говорим о Тени.
Главное, чтобы после знакомства с такими образами ученик мог, пусть на интуитивном уровне, задать себе вопросы, не связанные с оценкой или учебной целью, но обращённые внутрь: бывает ли, что мы ненавидим в других то, что не принимаем в себе? Почему важно признать и преобразить свою Тень, а не бороться с ней? Что происходит с героями, которые игнорируют свою Тень? На такие вопросы не даётся «правильного» ответа, но они могут остаться в человеке как интеллектуальные маяки на будущее. Ведь личностное развитие, вопреки школьным установкам, не всегда происходит «на свету». Человек не развивается в «свете», если ему не дать пусть даже одним глазком заглянуть в «тьму». Именно в контролируемых, осмысленных и педагогически грамотных условиях ему можно показать, что тьма – это не опасность сама по себе, а возможность понять, откуда вообще берётся свет. Так формируется задел на будущее: «Архетипы личности имеют огромный педагогический потенциал, так как по содержанию они охватывают чувства, мышление, образы, ощущения и интуицию юношей и девушек. Это требует уравновешенного соотношения в сознании юношей и девушек, которое в педагогической психологии следует учитывать в воспитании и обучении, а также готовить молодёжь к самосовершенствованию и самоподготовке на основе знаний феномена бессознательного и особенностей взаимодействия его с сознанием». [1]
Введение таких образов в урок литературы не требует отдельной программы. Порой достаточно одного урока, одного текста, одной беседы, чтобы школьник, сталкиваясь с внутренним конфликтом в будущем, имел шанс почувствовать: возможно, это – не ошибка, не болезнь, не «я плохой», а Тень – та часть, которую нужно увидеть, чтобы стать цельным. Навык видеть архетипы в себе и других формируется десятилетиями, но когда он формируется – он становится мощнейшим инструментом личной устойчивости, глубинного понимания и внутренней честности.
Также следует ясно обозначить риски и вызовы. Один из них – романтизация насилия, особенно в подростковой среде, где разрушительное поведение может восприниматься как протест или мужество. Образы Тени легко могут быть спутаны с героизмом, особенно если их эстетизировать. Второй риск – превращение Тени в моралистическую схему, когда разговор о ней сводится к бинарной логике: плохое-хорошее, правильное-неправильное. Это закрывает пространство внутреннего исследования. И наконец, третья опасность – использовать архетип Тени как оправдание деструктивного поведения: «это моя Тень, поэтому я агрессивен». Важно различать: Тень – это не разрешение, а источник понимания; не индульгенция, а приглашение к будущей трансформации.
Педагогика тёмных архетипов – это культурно-гуманитарная рамка, в которой ученик впервые сталкивается с тем, что психика многогранна, что эмоции сложны, что внутренний мир нельзя свести к «я хороший» или «я плохой». Это очень скромное, очень предварительное знакомство, но оно важно именно тем, что в будущем оно может стать поворотным. Навык видеть архетипы – и в себе, и в окружающих – формируется десятилетиями, и в школьном возрасте это скорее зерно, чем плод. Пока материал остаётся в Тени, он пугает и разрушает. Но если он и один раз был возвращён в сознание, пусть в виде басни, стиха или вопроса на уроке – он теряет часть своей разрушительной силы. И, как бы ни было это парадоксально, именно такая деликатная встреча с Тенью делает подростка более нравственным, а не менее. Не потому, что он становится «хорошим», а потому что он становится немного более целым.
Список литературы:
- Адыкулов А. А. Архетипы, культура и воспитание человека // Вестник КРСУ. Т. 19, №10 – 2019. – C. 122. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vestnik.krsu.kg/article/download/2258 (дата обращения: 13.09.2025)
- Крылов И. А. Басни. – М.-Л.: Издательство академии наук СССР, серия «Литературные памятники», 1956. – 658 с.
- Құнанбаев Абай. Таңдамалы шығармалар. Өлеңдер. Поэмалар / жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 242 б.
- Юнг К. Г. Аналитическая психология: Прошлое и настоящее. М.: Мартис, 1995. – 320 с.
дипломов
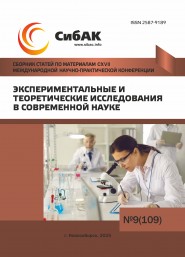

Оставить комментарий