Статья опубликована в рамках: XXXIV Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 15 сентября 2015 г.)
Наука: Филология
Секция: Литературоведение
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
отправлен участнику
ОСОБЕННОСТИ АНТИУТОПИИ О. ХАКСЛИ В РОМАНЕ «О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР»
Бурдун Нина Владимировна
студент 4 курса, кафедра английской филологии
КубГУ,
РФ, г. Краснодар
Email: 050195@list.ru
Блинова Марина Петровна
научный руководитель, канд. филол. наук, доцент кафедры зар. лит.,
КубГУ,
РФ, г. Краснодар
Во все времена человечество задумывалось о вероятных перспективах развития общества. Это находило свое отражение в литературе: появлялись произведения, авторы которых пытались создать свой сценарий развития мира в последующую эпоху. Жанр антиутопии с каждым днем становится все более популярным: в настоящее время одним из наиболее актуальных произведений является роман О. Хаксли «О дивный новый мир».
Для того чтобы провести исследование особенностей антиутопии О. Хаксли, дадим определение данному жанру и рассмотрим его характерные признаки.
Антиутопия — в художественной литературе и в общественной мысли такие представления о будущем, которые в противоположность утопии отрицают возможность построения совершенного общества и предрекают, что любые попытки воплотить в жизнь такое общество неизбежно ведут к катастрофическим последствиям [1, c. 27].
М. Шадурский выделяет три субжанровых разновидности антиутопии: квазиутопия, какатопия и дистопия. Несмотря на некоторые различия, все субжанровые разновидности антиутопии объединяет спор с утопией, отрицание ее принципов, что позволяет нам, изучив труды М. Шадурского и О. Павловой, выделить признаки, характерные для антиутопии в целом [2], [4]:
- Начнем с того, что и в утопиях, и в антиутопиях описывается общество, изолированное от других государств. Однако утописты видят в нем идеал, который они противопоставляют реально существующему миру.
Авторы же антиутопий, наоборот, проектируют на это воображаемое общество худшие стороны современной им действительности.
- В отличие от утопий, где все застыло, как на картине, в антиутопиях мир динамично развивается и, как правило, в худшую сторону. Но стоит заметить, что именно от утопий антиутопия переняла некоторые статичные описательные элементы.
- Утописты изображали бесконечные просторы, в антиутопиях же пространство намеренно ограничено. Обычно у героя есть личное пространство, то есть его квартира или даже комната, и «реальное пространство», которое принадлежит государству, но не личности.
- Как мы знаем, в утопическом государстве все процессы, протекают по заранее установленному образцу. Показывая, насколько нелепы эти идеи, антиутописты специально «ритуализируют» жизнь героев. То есть изображают общество, где ритуалы, обычаи и правила управляют жизнью людей, не позволяя им мыслить самостоятельно.
- Утопия не приемлет иронии и иносказания. Антиутописты описывают «идеально плохое общество» с горькой усмешкой или даже сарказмом. Иногда писатели используют аллегорию, перенося человеческие качества и пороки на животных, что придает произведению дополнительную специфическую нагрузку. Очень часто в антиутопиях используется гротеск, который и помогает добиться эффекта «страшной пародии», заставить читателя ужаснуться.
- Не случайно страх является внутренней атмосферой антиутопии. Власть устрашает людей, и они становятся пассивными, послушными. Но появляется личность, уставшая бояться, и это становится главной причиной конфликта, которого нет в утопиях.
- В утопиях все общество безлико, а люди одинаково прекрасны. Антиутопия же очень большое внимание уделяет чувствам и переживаниям отдельной личности, которая является не мифическим странником, а жителем этой страны; и показывает насколько тяжело сохранить человеческое лицо в таком государстве.
Таким образом, антиутопия — логическое развитие утопии и формально также может быть отнесена к этому направлению. Изображаемый в антиутопии мир во многом напоминает утопический, он также закрыт, оторван от реальности, и все продумано до мелочей. Но свое внимание писатели акцентируют не столько на устройстве общества, сколько на отдельном человеке, который там живет, а также на его чувствах, несовместимых с бесчеловечным общественным укладом. Так возникает конфликт между личностью и бездушной системой. Само наличие конфликта, по сути, противопоставляет антиутопию бесконфликтной описательной утопии.
О. Хаксли справедливо считают одним из авторов классических антиутопий XX века. С ранних лет писатель размышлял о том, что ждет человечество в будущем. Еще в юношеском стихотворении «Карусель» Хаксли метафорически изображает общество в виде «все ускоряющего движение аттракциона, которым управляет умалишенный машинист-инвалид» [5, с. 112].
Роман «О дивный новый мир» является своеобразной сатирой или даже пародией на произведение Г. Уэллса «Люди как боги» и модель идеального «научного» общества. Сам Хаксли характеризовал роман как “the horror of the Wellsian Utopia and a revolt against it” («ужас утопии Уэллса и бунт против нее») [4, p. 348].
На первый взгляд, подобное определение может показаться странным, ведь в своем произведении писатель изобразил действительно совершенный мир, где все счастливы. Здесь нет революций, войн, болезней, нет нищеты, неравенства и даже страха смерти, и есть только «общность, одинаковость, стабильность» («COMMUNITY, IDENTITY, STABILITY») [3, c. 4], [6, p. 5]. Но в этом и заключается весь ужас и вся трагедия романа, ведь «не существует социальной стабильности без индивидуальной», то есть для создания стабильного общества необходимо, чтобы «все поступки, чувства и даже самые сокровенные желания одного человека совпадали с миллионом других». Не случайно, по словам Верховного Контролера “people are happy; they get what they want, and they never want what they can't get” («Люди счастливы; они получают все то, что хотят, и не способны хотеть того, чего получить не могут») [6, p. 151], [3, с. 113].
Так, у жителей «дивного мира» есть все, кроме свободы, которую они променяли на комфорт (“We prefer to do things comfortably”) [6, p. 163]. И писатель показывает, насколько деградировали эти «абсолютно счастливые» люди, утратившие даже способность самостоятельно мыслить, любить и делать выбор.
Таким образом, данное произведение является классическим примером антиутопии и обладает характерными для этого жанра признаками:
- Действие романа происходит в Мировом Государстве (“the World State”), которому после «кровопролитной девятилетней войны старого и нового миров» принадлежит практически весь земной шар, за исключением изолированных территорий с бесплодными почвами и ужасным климатом, которые было решено отдать под резервации для дикарей (“savage reservations”), а также нескольких островов, куда отправляют инакомыслящих. Это дает автору возможность противопоставить «идеальное» утопическое государство миру реальному, где пусть и не все счастливы, но во всяком случае «эти дикари», как говорит один из героев, «по-настоящему хранят свой отвратительный уклад жизни, вступают в брак, живут семьями, о научном формировании психики нет и речи, чудовищные суеверия, христианство, тотемизм, поклонение предкам, говорят лишь на таких вымерших языках, как зуньи, испанский...» [3, с. 55]. То есть необразованные индейцы, живущие в резервациях, обладают куда большей свободой и больше похожи на людей, нежели цивилизованные обитатели «нового мира».
- Несмотря на внешнюю «стабильность» мир, изображенный в романе, не статичен. Он продолжает развиваться, хотя, на первый взгляд, кажется, что научному прогрессу уже некуда двигаться. Ведь высокие технологии позволяют контролировать даже подсознание человека, управлять его желаниями, не говоря уже о клонировании и производстве людей в инкубаторах. Даже сам Верховный Контроллер понимает, что дальнейшее развитие науки опасно и может дестабилизировать ситуацию в обществе: “Science is dangerous; we have to keep it most carefully chained and muzzled’ («Опасная вещь наука; приходится держать ее на крепкой цепи и в наморднике») [6, p. 164], [3, с. 116]. Но все же на этом ученые не останавливаются, они стремятся проникнуть даже в душу человека и «освободить» его от страха смерти. Детей намеренно приводят в больницу, чтобы они могли веселиться, есть сладости, наблюдая за умирающими, и «привыкать к смерти» (“being death-conditioned”) [6, p. 138]. Таким образом, Хаксли доводит идею Уэллса о «всемогущем человеке» до абсурда, показывая, какими «богами» стали эти представители «научного общества» и как они смогли изменить себя.
- Как уже упоминалось раннее, авторы антиутопий намеренно ограничивают «личное» пространство героев. Жители же Мирового Государства его просто лишены. Правительство постаралось сделать все возможное, чтобы человек ни секунды не мог побыть наедине (“We don't encourage them to indulge in any solitary amusements” — «Мы не поощряем развлечений, связанных с уединением») [6, p. 109], [3, с. 85]. Людей даже выращивают, как растения, в специальных бутылях(“bottles’). Примечательно то, что на протяжении всего романа автор не раз применяет слово “bottled”, характеризуя душевное состояние Линайны и Бернарда. В переводе это звучит как «укупоренные», находящиеся в забытье. Таким образом, даже чувства и мысли героев им не принадлежат, а масштаб личности сужается до размеров бутылки. Когда же привыкший к свободе и одиночеству Дикарь решает уйти от цивилизованного мира и поселиться в заброшенном авиамаяке, толпы людей не оставляют его в покое вплоть до самой смерти.
- Как в любой антиутопии, жизнь обитателей придуманного Хаксли Государства «ритуализирована». Причем зачастую происходит подмена традиций и обычаев реального («дикого») мира традициями «цивилизованными». Так, жителей Мирового Государства не просто лишают искусства и религии, а заменяют все это различными «сходками единения», совместным просмотром «ощущалок» (“feelies”) и массовым приемом наркотика «сомы» (“Soma is Christianity without tears”) [6, p. 162], даже имя Бога заменяют Фордом, а крестное знамя – Т-образным. Вот и получается, что люди абсолютно счастливы, ведь все их потребности удовлетворены, и они даже не замечают, как полностью теряют способность самостоятельно мыслить и творчески развиваться.
- Однако, несмотря на всю безысходность положения, в котором оказалось общество «дивного мира», роман не проникнут атмосферой страха или ужаса, и в произведении явно присутствует ирония. Нелепые названия ритуалов, заменивших религию и искусство, “orgy-porgy’, ‘feelies”, глупые слоганы, которыми заполняют головы людей (“A gramme is always better than a damn” — «Сомы грамм — и нету драм!»; “Ending is better than mending” — «Лучше новое купить, чем старое носить») только усиливают впечатление о массовой деградации, показывая ничтожество этих людей [6, p. 35], [3, c. 30].
- Здесь следует отметить, что на протяжении всего романа Хаксли не раз сравнивает обитателей Мирового Государства с животными. Уже в первой главе сказано о Директоре Инкубатория “straight from the horse's mouth”, что наши переводчики заменили словосочетанием «из мудрых уст». Однако Хаксли не случайно использует именно это выражение, так как, судя по дальнейшему описанию, Директор действительно напоминает лошадь (“He had a long chin and big rather prominent teeth, just covered, when he was not talking, by his full, floridly curved lips” — «У Директора был длинный подбородок, крупные зубы слегка выпирали из-под свежих, полных губ») [6, p. 6], [3, c. 5]. О детях, проходящих курс «привыкания к смерти», сказано, что они смотрели на умирающую с животным любопытством (“with the stupid curiosity of animals’). Глядя на группу близнецов, Дикарь не раз называет их личинками (“human maggots”), а жужжащую толпу, которая находит его даже в заброшенном авиамаяке, — “locusts” и ‘grasshoppers”. «Саранча», туча бездушных насекомых, способных уничтожить все на своем пути — вот какими предстают перед нами люди будущего. Однако сами они считают себя существами высшего порядка, а к выросшему на воле Джону относятся, как к подопытной обезьяне (“as to an ape”). Они с интересом наблюдают за его необычным поведением, недоумевая, почему Дикарь все время цитирует Шекспира, и никогда не воспринимают его слова всерьез. Гельмгольц — единственный, кто по-настоящему пытается понять то, о чем говорит Джон, и даже по-своему восхищается талантом Шекспира, говоря о его стихах: “What a superb piece of emotional engineering! That old fellow makes our best propaganda technicians look absolutely silly’ («Ведь почему этот старикан был таким замечательным технологом чувств?») [6, p. 122], [3, с. 119]. Однако и здесь звучит авторская ирония, ведь Гельмгольц, хоть и увлекается поэзией, не в состоянии полноценно оценить содержание услышанных строк. Например, обращение Джульетты к матери “O sweet my mother” он воспринимает, как глупую неприличную шутку, так как в «цивилизованном» обществе любое слово, связанное с семьей, считается нецензурным. Поэтому Дикарь решает не метать бисер перед «свиньей» и убирает книгу (“removes his pearl from before swine’). Позже сам Верховный Контроллер говорит о жителях «дивного мира»: “Nice tame animals, anyhow” [6, p. 155]. Особое внимание здесь стоит обратить на слово “tame”, которое можно перевести как «ручной, послушный, покорный, дрессированный». Превратить людей в армию ручных, дрессированных зверьков — в этом и есть главный залог успеха Мирового Государства. Ведь такими существами управлять намного легче, чем умными и своевольными «дикарями», у которых на все есть свое мнение.
- Как известно, авторы антиутопий ставят своей целью изобразить не столько общественное устройство, сколько показать жизнь отдельного человека, поэтому рассказчиком зачастую выступает главный герой, являющийся жителем антиутопического государства. У Хаксли таких героев несколько, все они имеют разное происхождение и являются носителями определенных черт характера. Повествование ведется от третьего лица, однако перед читателем открыты все мысли и чувства персонажей. Так, мы можем увидеть «дивный новый мир» под разными углами. Сначала мы смотрим на него глазами Бернарда. Несмотря на принадлежность к высшему классу, этот молодой человек становится изгоем из-за своей нестандартной внешности. Он чересчур задумчив, меланхоличен, даже романтичен. С момента его появления на страницах романа, кажется, что именно Бернард — антиутопический герой. Он с презрением и ненавистью смотрит на окружающих его людей, отказывается принимать участие в «сходках единения», а красота природы завораживает его. (“The smile on Bernard Marx's face was contemptuous” — «Бернард улыбнулся снисходительно»; “But wouldn't you like to be free to be happy in some other way? …not in everybody else's way” — «Но разве не манит тебя свобода быть счастливой как-то по-иному? Как-то, скажем, по-своему, а не на общий образец?») [6, p. 26] [3, с. 24]. Но, как выясняется позже, основная причина недовольства Бернарда — чувство зависти и уязвленная гордость. (“Bernard hated them, hated them. But they were two, they were large, they were strong — «Бернард ненавидел, ненавидел их. Но их двое, они рослые, они сильные») [6, p. 34], [3, с. 30]. Получив популярность, он перестает замечать недостатки жизни в Мировом Государстве. И, в конце концов, не только перестает мечтать о свободе, но и слезно умоляет Верховного Контроллера не высылать его за пределы «дивного мира». Таким образом, выращенный в инкубатории и не имеющий представления о том, что такое семья, Бернард хоть и отличается от своих современников, но все же не способен стать настоящим героем-бунтарем. Но в середине романа автор знакомит нас с еще одним персонажем — Дикарем. Именно так называют его в Заоградном мире, куда Джон с детства мечтал попасть. Герой вырос в резервации среди индейцев, где, как и Бернард в своем обществе, был изгоем. Однако у Дикаря есть мать, которую он по-настоящему любит, непреодолимая тяга к знаниям, и, в отличие от Бернарда, читает он не справочную литературу. Именно Библия и произведения Шекспира формируют характер Джона и помогают ему стать личностью, способной вступить в конфликт и бороться с беспощадной системой (“But I don't want comfort. I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin” — «Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзии, настоящей опасности, хочу свободы, и добра, и греха») [6, p. 163], [3, с. 159]. Но Хаксли показывает нам, что один такой бунтарь-одиночка изменить ничего не сможет. Ведь только он способен увидеть и оценить весь ужас происходящего, остальные же вполне удовлетворены своей жизнью, в которой нет ничего, кроме удовольствий. Поэтому, как и для шекспировского Гамлета, эта неравная борьба заканчивается для Джона трагическим финалом. Таким образом, Хаксли предлагает своим читателям поразмыслить над тем, что может произойти с обществом, которое жертвует своей свободой и культурой ради цивилизации, и стоит ли платить такую высокую цену за материальные блага.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на внешнее благополучие, Мировое Государство не может быть названо утопическим. И «О дивный новый мир», обладая всеми основными признаками антиутопии, является не мечтой автора об идеальном будущем, а предупреждением об опасности.
Список литературы:
- Ивин А.А. Философия: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2004. — 1072 с.
- Павлова О.А. Метаморфозы литературной утопии: теоретический аспект. — М: Волгоград, 2004. — 247 с.
- Хаксли О. О дивный новый мир: Роман-антиутопия. Пер. с англ. О. Сороки. М.: Книжная палата, 1989. — 132 с..
- Шадурский М.И. Литературная утопия от Мора до Хаксли: Проблемы жанровой поэтики и семиосферы. Обретение острова — М: ЛКИ. 2007. — 165 с.
- Шишкина С.Г. Истоки и трансформации жанра литературной антиутопии в ХХ веке/ С.Г. Шишкина; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. — Иваново, 2009. — 230 с.
- Huxley A. Brave New World — Harper Perennial, 1998. — 252 p.
- Huxley A. Letters of Aldous Huxley, ed. by Grover Smith, New York and Evanston: Harper & Row, 1969. — 176 p.
отправлен участнику
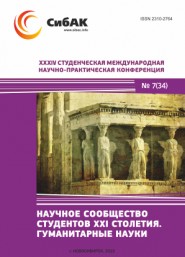

Оставить комментарий