Статья опубликована в рамках: XC Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 11 июня 2020 г.)
Наука: Филология
Секция: Лингвистика
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
«СИНТАГМАТИЧНОСТЬ» ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗА СИРОТЫ В КОНТЕКСТЕ СТРАДАЛЬЧЕСКОГО ДЕТСТВА: ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСФЕРЕНЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ БЛОКОВ ОБРАЗА РЕБЕНКА-СТРАДАЛЬЦА
"INTEGRATIONIST" LANGUAGE OF THE IMAGE OF ORPHANS IN THE CONTEXT OF A PAINED CHILDHOOD: POTENTIAL TRANSFERENCIA SEMANTIC BLOCKS OF THE IMAGE OF THE CHILD-SUFFERER
Roman Zhitenko,
second-year master's student of Omsk State Pedagogical University,
Russia, Omsk
АННОТАЦИЯ
В настоящей статье предпринята попытка описания языкового образа сироты в контексте широкого понимания концепта «человек», сущность которого М.П. Одинцова обозначила следующим образом: «это множество лиц, ипостасей, органов, частей и квазичастей, условно наделяемых активностью и многими другими качествами двойников, alter ego личности» [9; с. 12]. Таким образом, в атрибуции способов репрезентаций образа сироты доминирующим оказывается субконцепт «внешний человек» как «одна из объектных языковых ипостасей человека, условно отвлекаемая от двух других столь же фундаментальных сущностей объектных характеристик и соотносимая с ними: «человек внешний» и «человек внутренний»» [9; с. 127]. Однако проанализированные материалы (тексты русской литературы последней трети XIX – XX вв.) позволяют судить о том, что черты «внутреннего человека», т.е. «внутреннего» страдальца также наличествуют в реконструируемом языковом образе.
ABSTRACT
This article attempts to describe the language image of an orphan in the context of a broad understanding of the concept of "man", the essence of which M. Odintsova designated as follows: "this is a set of persons, hypostases, organs, parts and quasi-parts, conditionally endowed with activity and many other qualities of doubles, alter ego of the personality" [9; p. 12]. Thus, in the attribution of ways of representing the image of an orphan, the dominant sub-concept is "external person" as "one of the object language hypostases of a person, conditionally diverted from two other equally fundamental entities of object characteristics and correlated with them: "external man" and "internal man" " [9; p. 127]. However, the analyzed materials (texts of Russian literature of the last third of the XIX-XX centuries) allow us to judge that the features of the "inner man", i.e. the "inner" sufferer, are also present in the reconstructed language image.
Ключевые слова: языковая картина мира, языковой образ, «внешний» человек, «внутренний человек», семантический блок, «страдалец-нищий», «страдалец с физическим недугом», языковой образ сироты.
Keywords: language picture of the world, language image," external "person," internal person", semantic block," sufferer-beggar"," sufferer with a physical illness", language image of an orphan.
Толкование лексемы «сирота», зафиксированное в словаре С.И. Ожегова («ребенок или несовершеннолетний, у которого умер один или оба родителя») [10] сосредоточивает внимание исследователя, предпринимающего попытку реконструкции образа-«кванта» сироты на внешнем атрибуте детского страдания – отсутствии родителей. Данное наблюдение дает право рассматривать сироту как один из семантических блоков – конструктивную часть – образа ребенка-страдальца, т.к. в предыдущих статьях нами отмечалось, что «ситуация страдания [ребенка] мотивируется болезнью или смертью родителей» [4]. В этой связи отметим, что основным приемом объективирования внешних страданий сироты является контаминация данного семантического блока с блоками «страдалец-нищий» и «страдалец с физическим недугом».
Первый вектор взаимодействия семантических блоков («сирота» - «страдалец-нищий») реализуется на нескольких уровнях:
1. На уровне портрета, внешних характеристик, которыми наделен ребенок, оставшийся без родителей: Заношенная синяя рубаха без пуговиц, штаны, прорванные на коленях, поцарапанные ноги, давно не стриженная и не чесанная голова [мальчика Ильки] – все это не ускользнуло от цепких глаз старика. (В. Астафьев); Это была бледная, худенькая девочка лет семи-восьми, одетая в какой-то старый, длинный балахон и в стоптанные туфли. (К. Лукашевич); Федорке иногда делалось жаль двенадцатилетнего брата, и она молча начинала помогать ему: запахивала дырявый кафтанишко, подпоясывала тонким ремешком вместо опояски, завязывала коты на ногах <…>. (Д. Мамин-Сибиряк) – Подобные внешние характеристики сироты являются красноречивым свидетельством, во-первых, инициации периода страданий, вызванных необходимостью существования в среде «экономического дна», во-вторых, позиционной мены роли беззаботного ребенка, воспринимающего окружающий мир как «игровой манеж» ролью взрослого, видящего жизнь с точки зрения трудящегося «рабочего цеха».
2. На уровне объективно-бытовых атрибутов, воссоздающих ситуацию «экономического дна», в которой вынужден существовать сирота. Отметим, что в данном контексте объективно-бытовыми атрибутами мы считаем:
а) описания окружающей обстановки, изображающие разруху, неустроенность, неспособность ребенка самостоятельно поддерживать «гремучий ключ» изобильной жизни: Я очутилась в сырой и холодной комнате, освещенной одним только огарком, вставленным в бутылку <…>. (Л. Чарская); Квартира была тесная, с низкими потолками, где-то на окраине города, в одном из тех небольших деревянных домов, где ютятся бедняки, всю жизнь проводящие за тяжелым трудом. (К. Лукашевич); Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. (Д. Мамин-Сибиряк) – Объективно-бытовые атрибуты, несомненно, кульминирующие страдания сироты, акцентируя «угнетающие» детали жилища, продуцируют образ «антидома» - места, отмеченного темнотой, отсутствием уюта, способного оставить неизгладимый след на душевном состоянии ребенка, фон которого принципиально полярен светлому образу «дома»;
б) атрибуцию ситуации «экономического дна», мотивированной смертью родителей, следовательно, отсутствием «зоркого ока», не столько следящего за ребенком, сколько создающего атмосферу любви, заботы, благополучия: В первые дни Илька о матери не тосковал. Он еще не мог постигнуть смерти. В его голове еще не укладывалось, что мать может никогда не вернуться. (В. Астафьев); Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался. (А. Чехов); Круглый сирота, - ни отца, ни матери… Не от чего жиреть, сударыня! Отец умер от чахотки… (Д. Мамин-Сибиряк) - «Поток» самостоятельности, хлынувший на сироту, на самом деле оказывается мнимым, поскольку эта самостоятельность разрушающая, безжалостно стирающая закономерные границы детства и приближающая период внезапной взрослости, наделяющей образ ребенка внутренне недетскими чертами.
Таким образом, контаминация семантических блоков «страдалец-нищий» и «сирота», прослеживающаяся на уровне портретных характеристик и выявленных объективно-бытовых атрибутов, свидетельствует о динамичности, пластичности образа сироты, о его вмещающей структуре.
Следующий факт контаминации вычлененных нами субобразов (образов-«квантов»), свидетельствующий о репрезентационном полифонизме языкового образа сироты, обнаруживается во взаимодействии семантических блоков «сирота» и «страдалец с физическим недугом».
Прежде всего отметим, что соположение сироты с ребенком, страдающим и деформирующимся в результате активного разрушительного действия физического недуга, основано на наличествовании в моделях репрезентации обоих семантических блоков общего атрибута – заболевания: Прошка был обварен паром, как рыба, и его без памяти привезли домой в таком виде, что Марковна никак не могла узнать своего Прошку. Лицо и шея у Прошки превратились в один сплошной пузырь, глаз не было видно, и кожа отставала от живого мяса лоскутьями. (Д. Мамин-Сибиряк); … Прошка болен. Глаза у него так и горели лихорадочным огнем; на бледных щеках выступал чахоточный румянец. (Д. Мамин-Сибиряк); … Бедняжка Марго умирает от какой-то тяжелой внутренней болезни, она уже месяц не встает на ноги. (Л. Чарская) – Однако это же соположение обнаруживает и весьма важное расхождение семантических блоков: в отличие от страдальца с физическим недугом, увечье которого является врожденным, а следовательно, инициирующим компенсаторный механизм, нейтрализующий дефект чувственного познания мира, сирота обладает болезнью приобретенной, развившейся в результате воздействия внешних разрушительных сил. В этой связи можно утверждать, что в образе сироты отсутствует орбиталь некоего духовного прозрения, позволяющего воспринимать окружающий мир как многообразие оттеночных явлений, поэтому трагедия ребенка, оставшегося без родителей, подчеркивается не только внешним недугом, но и душевной хворью и, выходя за пределы эмоционального интеллекта несовершеннолетнего, усугубляет картину «свинцовых» страданий.
В то же время стоит акцентировать внимание на весьма любопытной детали: отсутствие действия компенсаторного механизма отнюдь не «ламинирует» образ сироты, не иконизирует его и не приписывает ему нравственную глухоту и пострагедийную жестокость. Ребенок, оставшийся без родителей, как и страдалец с физическим недугом, обнаруживает способность нейтрализации проблем, доходящих до драматической развязки, восстановления баланса мирной жизни, утешения стенающих, демонстрирует непреодолимое желание вернуть период утраченного детства путем попытки разрешения принципиально неразрешимых противоречий: Наташе было жаль его от всего сердца. «Лишь бы не выгнали… Пусть живет в кухне… Бедный! Умрет тогда под забором», - думала стриженая головка. (К. Лукашевич); «Убегу!.. – решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. – Даже и Алексея Иваныча не буду бить, а просто убегу». (Д. Мамин-Сибиряк); А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею. (А. Чехов) – Стремление к проявлению «деятельной любви», к овеществлению порывов жалости наделяет образ сироты полимерностью, скульптурностью и в то же время приближает его к эпицентру нравственных переживаний, таящихся в душе праведника.
Как и для страдальца с физическим недугом, для сироты полифоничным продолжением предельно динамичного образа являются пейзажные зарисовки, в некоторой мере усложняющие модели его репрезентации: Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо!.. Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся студеные ключики, всякая птица поет по-своему, - умирать не нужно! (Д. Мамин-Сибиряк); Илька никуда бежать не собирался. Он сидел возле шалаша, втянув голову в плечи, подобрав под себя ноги, и слушал <…>. Над ним кружатся, пищат комары. Он их не отгоняет и старается дышать по возможности тихо <…>. Мир вокруг светлый, приветливый, многоголосый. (В. Астафьев); Илька улыбнулся, бросил малым рыбкам хлебные крошки, обнаруженные в карманах, и, не подбирая штанин, побрел дальше. (В. Астафьев) – В данном случае настойчивое, однако неосознанное стремление страдальца к генетическому единству с природой свидетельствует, во-первых, о гармонизации «водоворота» переживаний в результате взаимодействия «свободных стихий», во-вторых, об обретении ребенком всеобъемлющей, согревающей любви, восполняющей дефицит умиротворяющего блаженства, в-третьих, о воссоединении ребенка с родной душой (хотя и неосязаемой), благодаря «взаимовнедрению»: природы в душу сироты и растревоженной души сироты внутрь природной свободы. Таким образом, союз, заключающийся в созвучии, согласии, содействии ребенка и природы замещает пустующую орбиталь образа сироты – утраченные компенсаторный механизм, сверхсилы для восприятия окружающего мира.
О пересечении семантических блоков «страдалец с физическим недугом» и «сирота» свидетельствует процесс контекстуального конструирования контрастного поля, лишающего образ ребенка внешней закрытости, завершенности, наделяющего его перспективой развития. На морфологическом уровне данная особенность репрезентации образа сироты реализуется через использование глагольных форм изъявительного наклонения будущего времени или сослагательного наклонения, на уровне синтаксиса – через моделирование параллелизма картин настоящего (прошедшего) и будущего, описывающихся формулой «есть (было) – стало (будет)»: «Вот буду большой, тогда сам в мастера пойду…» – соображал мальчик и видел себя в мягких прядениках, в кожаной защитке и в новых вачегах, какие были у отца. (Д. Мамин-Сибиряк); «Когда я вырасту большой, - раздумывал Прошка за работой, - тогда я отколочу Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес». (Д. Мамин-Сибиряк); «Когда я вырасту большая, - фантазировала она, - я найму себе точно такую же квартиру, как у тети Маши, и куплю себе точно такую же мебель, посуду и фортепиано…». (К. Лукашевич) – Следует обратить внимание на гипотетический характер описанной нами дихотомичной формулы, на возможное отсутствие ее вещественной реализации, поскольку параллелизм сопоставляемых ребенком картин носит оттенок мечтательности, детской наивности и обусловлен неукротимым желанием сироты внедрить утраченный фрагмент детства во взрослую жизнь. Мечтательность в данном случает является специфическим атрибутом образа сироты, наделяющим его динамикой восстановления, гармонизации жизни не только своей, но и близких людей, испытывающих страдания: Видел он часто и самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина, - пошел работать к другому. (Д. Мамин-Сибиряк); Она хотела в будущем подавить своей щедростью родственников, вероятно оттого, что ее всегда обделяли сладкими кусочками. (К. Лукашевич); За последнее время Наташа мечтала более всего о том, что, когда она вырастет большая, первым делом возьмет к себе жить «почтенного дядюшку», даст ему много есть и позволит спать в зале на диване, а не в кухне. (К. Лукашевич)
Доказательством перспективы развития, гармонизирующей динамичности в образе сироты является позиционирование его людьми, испытывающими физические и духовные муки, спасителем, проводником к счастливой жизни. В этой связи смерть сироты воспринимается не как прекращение детских земных страданий и возведение ребенка-мученика в степень «Божественного ребенка», «ребенка-ангела», но как крах ожиданий, чаяний, как завершение созидательной работы, следовательно, отрицание возможного пути развития: Со смертью Прошки у старой Марковны не осталось больше никакой надежды. Не осталось и у Федорки надежды вырваться с заводской поденщины. Так и сгинула вся семья. (Д. Мамин-Сибиряк)
Итак, синкриза семантических блоков «страдалец с физически недугом» и «сирота» свидетельствует об ассимилятивном стремлении сироты к заимствованию внешних атрибутов страдальца и об одновременном диссимилятивном отдалении от образа, заряженного терзаниями и скорбью, вследствие обнаружения необходимости восстановления периода утраченного детства.
Поскольку травмирующая сила сиротства, отсутствия родительской любви, трансформирует как облик, так и душевное состояние ребенка, в его образе также обнаруживаются атрибуты внутреннего страдания. Данные атрибуты, с одной стороны, кульминируют детские страдания, наделяя их остротой и «реактивным» отчаянием, с другой стороны, свидетельствуют о замыкании для ребенка темпоральных и локальных границ детства («игры») и о начале периода взрослости («рабочего цеха»). Выделим следующие уровни, на которых реализуется компонент внутренних страданий сироты:
1) уровень портретных и речевых антиномий. За внешней оболочкой ребенка скрывается взрослый человек, образ которого кристаллизуется через детали внешности (глаза) и через особенности невербального поведения (многозначительные жесты), а также через способность не по-детски мотивировать каждое действие, прагматически рассуждать: Прежде чем вывести первую букву, он [мальчик Ваня] несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. (А. Чехов); Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски; потом он точно не умел улыбаться. В тощей фигурке Прошки точно был скрыт какой-то затаенный упрек. (Д. Мамин-Сибиряк); А маленькие детские уши все слышали, пытливые серьезные глаза видели все, и стриженая голова думала много-много… (К. Лукашевич);
2) уровень поведения сироты. Ребенок, оставшийся без родителей и принявший неурочный период взрослости, более не воспринимает мир как «игровой манеж» - он болезненно переживает концептуальный переход от игры к работе, «трудовому цеху», поскольку считает такой переход неотвратимым для поддержания «потока» жизни, окрашенной несчастьем: Я [мальчик Альф] умею мыть посуду, колоть дрова, топить печи, чистить сапоги. Когда я был у мамы, она служила кухаркой и я помогал ей. (Л. Чарская); Другие дети веселились, играли и пользовались свободой; а он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; а он – круглый сирота и должен сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. (Д. Мамин-Сибиряк); Кто он теперь, Илька сразу определить не мог, но, во всяком случае, он уже не тот закабаленный человек, который – водись да водись и поиграть некогда. (В. Астафьев) – Неизбежность «закабаления» «постылыми доспехами» работы, осознание себя не центром внимания взрослых, но творцом собственной жизни актуализируют страдания сироты и вместе с тем отдаляют данный образ от образа счастливого ребенка.
С уровнем поведения ребенка, оставшегося без родителей, связан мотив «утраченной игры», который реализуется (как и в случае ребенка-«внутреннего» страдальца) посредством важнейших концептуальных мен: процесса веселой игры – каторжным трудом и непосредственно детских игровых атрибутов (игрушек) орудиями труда (топором, вертелом), причиняющими физические и душевные муки: Мачеха засовывала ему [мальчику Ильке] сзади под опояску топор, завязывала шею полотенцем, закатывала рукава полушубка, и он отправлялся за дровами. (В. Астафьев); Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. (Д. Мамин-Сибиряк) – Концептуальная анакриза, кульминирующая мотив «утраченной игры», не только объективирует внутренние страдания сироты, но и наделяет его образ недетскими качествами, обнаруживает тенденцию к передоверию ребенку функций взрослого человека, важнейшая из которых – быть распорядителем собственной жизни, хозяином окружающего «бытового мира»;
3) третий уровень воссоздания страдальческого компонента образа сироты – рефлективный уровень, который проявляется в анализе ребенком собственных поступков, оценке бедственного положения и в осознанном выборе модели поведения. В этой связи весьма любопытным оказывается следующее наблюдение: ребенок, потерявший родителей и внутренне более не ощущающий себя ребенком, стремится к импликации страданий. Обозначенная импликация реализуется в желании сироты подчинить окружающие явления своей воле, разорвать «нити зависимости» от взрослого человека и интенсифицируется процессуальным чувством – гордостью, питаемой началом становления собственного достоинства. Отметим, что гордость ребенка разительно отличается от гордыни взрослого и базируется главным образом на стремлении к самоутверждению, на попытке отстоять собственные интересы, очерчивающие границы свободы страдальца-сироты: А Прошка продолжал работать, несмотря даже на то, что Алексей Иваныч уговаривал его отдохнуть. Мальчику было совестно есть чужой хлеб даром… (Д. Мамин-Сибиряк); Тетка Парасковья часто просила Ильку подежурить у телефона и подкармливала его за услугу. <…> Даром Илька ну ни от кого ничего не взял бы. (В. Астафьев); Илька отскребал ножом пригоревшую кашу и глотал слюнки. Лучше бы, конечно, съесть эти горелые корочки. Они тоже вкусные, но он не станет этого делать. Как-нибудь обойдется своими харчами, перебьется как-нибудь. (В. Астафьев) – Обостренное чувство гордости, действенной совести – это те атрибуты, которые отличают сироту от беспризорника – страдальца, просящего милостыню и тем самым камуфлирующего чувство собственного достоинства ради получения благоподаяния;
4) четвертый уровень репрезентации внутренних страданий сироты – коммуникативный уровень. Страдания ребенка здесь обнаруживаются в его оценке, полученной от окружающих людей, эксплицирующих замаскированные душевные терзания. Обнажая муки ребенка при помощи коннотативных лексем «бедный», «милый», «жалкий», а также при помощи диминутивов, выражающих сочувствие, участники коммуникативного акта интегрируют образы сироты и «ребенка-ангела», «Божьего ребенка». Вместе с тем, в высказываниях говорящих прослеживается и контрастный вектор в оценке сироты, сводящийся к атрибуции его как ребенка, нарушающего общественный порядок, следовательно, способного совершить преступление: После того как Илька угостил мачеху молотком, названия варнак и бродяга к нему приклеились накрепко. Тетка Парасковья протестовала: «Да какой же он варнак? Сирота-горюн. Кто за него заступится, если он сам себя не защитит?». (В. Астафьев); Какой ты худенький! Настоящий цыпленок! (Д. Мамин-Сибиряк) – Интеграция синонимичных образов (сирота – «Божий ребенок», «ребенок-ангел») наблюдается в оценочных пропозициях, транслирующих этические религиозные нормы: «Боженька любит сироток!» – проговорила моя новая знакомка и, отломив большую половину медовой коврижки, купленной ей теткой, протянула мне. (Л. Чарская); «За то, – тихо и торжественно произнесла тетя Маша, – за то, дитя мое, что ты маленькая сиротка, а господь милосердный любит сирот и охраняет их своей святой десницей». (Л. Чарская); Она сирота, и покойный брат тебе ее поручил… Ты перед Богом ответишь! Она хорошая, добрая. Тихая… Смотри, Петенька, не давай, Наташу в обиду. (К. Лукашевич)
Выделим еще один немаловажный атрибут воссоздания внутренних страданий сироты, который обнаруживается при анализе развернутых «отступлений», представляющих собой овеществление воспоминаний о «золотой поре детства». Именно в воспоминаниях-«отступлениях» кристаллизуется естественный образ сироты, лишенный фальсифицирующего субъективизма, выведенного на основе поверхностной критики «яростных» действий ребенка: Трифон Летяга слушал Ильку, улыбаясь одними глазами. Он не мешал мальчишке вспоминать самое дорогое – дедушку и бабушку. (В. Астафьев); Но мать… <…> Молотком, топором, чем угодно ударит, обороняя самое дорогое, что хранится в душе. (В. Астафьев); Отец любил ее, по-своему жалел, но рано покинул этот мир. Два года тому назад его не стало, и перед смертью он умолял брата Петра не покидать бедную сироту, у которой не было ни души на свете. (К. Лукашевич); Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. (А. Чехов) – «Мемориальные сокровища души» характеризуют сироту как предельно чувствительного ребенка, наполняют его образ безысходной болью, требующей бережного утешения, лечения посредством проявления бескорыстной «деятельной любви».
Сверхчувствительная натура сироты становится заметной в чрезмерном внимании ребенка к высказываниям окружающих, в акцентировании «острых» деталей речи, в способности вскрывать иронический подтекст, основанный на стереотипных представлениях о человеке, оставшемся без родителей: «Иное слово больней оплеухи, - заявил Трифон. – А сирота, он особенно к слову чувствительный, по себе знаю». (В. Астафьев); Тетка и Липа не обижали Наташу, то есть не морили ее голодом, не били, не мучили. Но ведь бывают и иные обиды, такие же горькие и чувствительные. (К. Лукашевич); После ухода Николая Васильевича тетка и Липа своими насмешками прохода не давали девочке. (К. Лукашевич)
Апогеем внутренних страданий сироты является своеобразный «душевный пожар», «фонтан» внутренних мук, рвущихся наружу. Эксплицируется «эмоциональная стихия» посредством детских слез, которые несут катарсический эффект, распространяющийся на окружающих взрослых: Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. (А. Чехов); Заметив бабушку, Илька прижался к ней и долго, безутешно плакал. Потрясенная бабушка гладила его по спине… (В. Астафьев); Старый сплавщик обнял Ильку, посадил рядом с собой и стал гладить по голове, отчего Илька разревелся. Сирота чувствителен к ласке, особенно к мужской. (В. Астафьев) – Мотивы безутешного плача, детских слез, с одной стороны, канонизируют образ ребенка и, наделяя его атрибутами «ребенка-ангела» (поскольку в христианской символике слезы являют воссоединение с Богом), устремляют его к пантеону святых страдальцев, с другой стороны, благодаря инициации катарсического процесса, дистиллируют духовный мир окружающих, пробуждая в нем способность к состраданию, передавая ему, безусловно, нравственный «заряд».
Однако образ сироты, сочетающий атрибуты «внешнего» и «внутреннего» страдания, отдаляющийся от эпицентра детской непосредственности, все-таки обнаруживает весьма значимую «брешь» исполинского характера, свидетельствующую о гипотетической возможности возвращения периода детства. Вышеупомянутая «скважина детскости» объективируется при попытке соположения двух концептуально противоположных картин: детской хрупкости и взрослой «хмельного пира»: Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. (А. Чехов); Братан Гаврила настойчиво совал ему в руку кружку с водкой: «Выпей, парень, выпей за свою и за нашу жизню…» <…> Он отскочил в сторону и хотел выплеснуть водку в реку, однако не решился. Хоть она и зелье, эта водка, а все же денег стоит. (В. Астафьев); С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол. (Ф. Достоевский) – Изображение сироты на фоне картин «хмельного пира», во-первых, демонстрирует синкризу жестокой, забавы и сочувствия со стороны взрослых, во-вторых, наделяет образ страдальца гибкостью, позволяющей одновременно существовать в двух пространствах: детства и взрослой жизни. Алкоголь – собственно взрослый атрибут – в данном контексте как «яд», несомненно, чуждый для ребенка, отравляющий его, и как «чудо-зелье», безжалостное действие которого возвращает утраченный фрагмент детства, обнажает палимпсест детской незрелости, податливости.
Итак, в контексте страдальческого детства образ сироты репрезентируется весьма полифонично, и полифонизм данного языкового образа обнаруживается в неразложимом единстве атрибутов, объективирующих «внешние» и «внутренние» страдания, а также во взаимодействии, закономерной трансференции синонимичных блоков целостного образа ребенка-страдальца («страдалец-нищий», «страдалец с физическим недугом»). Отчетливая синкриза портретных черт, демонстрирующих видимые физические муки, картин бытовой обстановки, продуцирующих отрицательно «заряженный» образ «антидома», а также душевных терзаний, противоречий в образе сироты свидетельствует, во-первых, о бесспорном его отнесении к детскому страдальческому «пантеону», во-вторых, о преждевременном внутреннем взрослении в результате воздействия «яростных» сил мира. В то же время манифестация взрослыми забавы и сочувствия, сопереживания гипотетически возвращает ребенку утраченный фрагмент детства, а следовательно, наделяет его образ потенциалом развития, динамичностью, гибкостью, ведущих к перспективной открытости темпоральных границ периода «золотой поры», что позволяет позиционировать страдальца сироту как предикат будущего.
Отметим, что исследуемый нами языковой образ как «квант» художественной картины мира имеет катарсический вектор, поскольку муки, терзания, душевная боль, переживаемые вместе с ребенком-страдальцем, не только нейтрализую «греховное» напряжение взрослого человека, кристаллизуя в нем скрытые великодушие, щедрость, благородство, но и ведут его к нравственному прозрению – в этом обнаруживается унисонное звучание образов сироты и блаженного.
Таким образом, выявленные нами атрибуты страдания в структуре образа сироты демонстрируют, с одной стороны, синкретичное единство черт ребенка и взрослого человека, с другой стороны, «квантовую запутанность», валентность, трансференционную разноплановость данного образа, то есть зыбкость границ между детством и взрослостью, борьбой и смирением, страданиями и блаженством.
Список литературы:
- Астафьев В.П. Собрание сочинений: В 4 т. – М., 1979 – 1981.
- Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания [Текст] / Ю.Д. Апресян // Вопросы языкознания. - 1995. - №1. – С. 37-67.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 15 т. – Л., 1988.
- Житенко Р.Н. Семантические блоки языкового образа ребенка-страдальца в текстах русской классической литературы: к вопросу атрибуции человека "внешнего" [Текст] Р.Н. Житенко // Современная наука: актуальные вопросы, достижения, инновации. Сборник статей Х Международной научно-практической конференции : в 2 ч. - Пенза, издательство "Наука и просвещение", 2019. – C. 184-189.
- Зализняк A.A., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира [Текст] / A.A. Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 544 с.
- Зеньковский В.В. Психология детства. – М., 1996. – 346 с.
- Лукашевич К.В. Дядюшка-флейтист [Текст]: Повесть Клавдии Лукашевич : Для детей среднего возраста. – М., 1903. – 56 с.
- Мамин-Сибиряк Д.Н. Собрание сочинений: В 10 т. – М., 1958.
- Образ-концепт «человек» в русской языковой картине мира: Ипостаси, параметры, семантические и семантико-синтаксические категории, модели и субмо-дели, коммуникативно-прагматические реализации: монография / под ред. О.В. Коротун, Н.Д. Федяевой. – Омск, 2011. – 154 с.
- Ожегов С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999.
- Чарская Л.А. Записки сиротки [Текст] : Повесть для детей / Ил. Э. Соколовского. – Санкт-Петербург; Москва, 1999. – 138 с.
- Чехов А.П. Собрание сочинений: В 12 т. – М., 1960.
дипломов
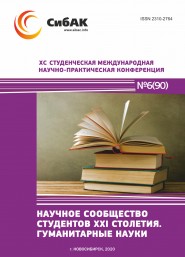

Оставить комментарий