Статья опубликована в рамках: IV Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 04 октября 2012 г.)
Наука: Филология
Секция: Литературоведение
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ПРОБЛЕМЫ КАРНАВАЛИЗОВАННОЙ ПОЭТИКИ В КОМИЧЕСКИХ РАССКАЗАХ М. ЗОЩЕНКО («ПАСХАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ», «НА ДНЕ»)
Сергеева Екатерина Владимировна
студент 5 курса, филологический факультет сф ФГБОУ ВПО «БашГУ», г. Стерлитамак
Е-mail: katya-sergeeva@list.ru
Ибатуллина Гузель Мртазовна
научный руководитель, канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы сф ФГБОУ ВПО «БашГУ», г. Стерлитамак
В ряде известных работ М.М. Бахтина [1], Ю.Б. Борева [2], В.П. Даркевича [3] описывается и объясняется сущность карнавала как высшего проявления праздничной культуры, особого синтеза обрядово-зрелищных форм с присущими только ему ритуальными действами: переодеванием, «карнавальной сменой одежд», «бескровными карнавальными войнами, словесными агонами-перебранками», «использованием вещей наоборот: надеванием одежды наизнанку штанов на голову, посуды вместо головных уборов, употреблением домашней утвари как оружия» и т. д. [1, с. 144—145]. Все эти традиционные элементы обрядовой карнавальной культуры, на наш взгляд, обнаруживаются в художественном мире произведений М. Зощенко, утверждая «неизбежность и одновременно зиждительность смены-обновления, веселую относительность всякого строя и порядка, всякой власти и всякого положения» [1, с. 143]. «Самое замечательное и органичное в творческом методе Зощенко, то, что карнавально-«амбивалентное, органичное единство комического и серьезного увидено и представлено им как существующее в самом материале (курсив автора) изображения и даже диктуемое им» [5, с. 34].
Карнавал — праздник всеуничтожающего и всеобновляющего времени. Время, в котором живут герои Зощенко и он сам — время обновления, смен и перемен, изменения уклада жизни и сознания людей, когда безжалостно уничтожается все старое. Это время само по себе амбивалентно: с одной стороны, это эпоха революционных разрушений, отказа от многих истинных культурных и духовно-нравственных ценностей, с другой — оно является одним из этапов социально-исторического движения страны и становления жизни в целом. В мире Зощенко, отражающем реалии окружающей его действительности, все основные жизненные стихии этой действительности — стихии быта, жизни личной, социально-исторической, общекультурной, — а также все основные духовно-нравственные ценности в результате происходящих перемен оказываются сдвинутыми с места, приходя в движение и взаимодействие, приобретая карнавальную неоднозначность и амбивалентность.
Карнавал — это особая серьезно-смеховая сфера освобождения от иерархического разделения, официальных ограничений, строгой социальной, культурной, религиозной регламентации жизни, возможность обретения нового взгляда на них. Не случайно, центром этого всенародного праздника нередко становится фигура шута, являющаяся олицетворением обретаемого здесь чувства радости и свободы. Поэтика карнавала отчетливо проявлена во многих произведениях М. Зощенко, в том числе, и в рассказе «Пасхальный случай».
Название рассказа «Пасхальный случай» отсылает нас к культурным и духовно-нравственным контекстам, связанным с главным праздником христианского богослужебного года, Пасхе. Но в центре внимания здесь оказывается, прежде всего, характерное для народно-площадной культуры противопоставление серьезного церемониала и площадного увеселения, строгой официальности и простецкой свободы, вседозволенности — всеобщей раскрепощенности. Изображается канун Пасхи, Великая Суббота, когда в храмах освящают куличи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Все внешние приметы, атрибуты сакрального ритуала здесь обозначены: церковь («Прихожу к церковной ограде»), церковные служители (батюшка, «отец дьякон»), окропление и освящение, колокольный звон («И только поставил, звоны и перезвоны начались») и т. д. [4, с. 107—108]. Однако сам ритуал приобретает черты карнавально-травестийного действа. Достаточно вспомнить, как совершается обряд: «Макнет кисточку в ведро и брызжет вокруг. Кому в рожу, кому в кулич — не разбирается» [4, с. 108]. Весь религиозный пафос праздника для рассказчика растворяется в профанно-фамильярных жестах священника и дьякона. Не менее карнавализованно ведет себя и толпа, являющаяся здесь в соответствии с логикой карнавала одновременно зрителем и участником действа. Описанная ситуация (из-за нехватки места для куличей на столе дьякон нечаянно наступил на кулич рассказчика) соответствует скорее атмосфере какой-нибудь очереди в магазине, где каждый стремится «урвать кусок получше», где продавец может обмануть, где покупатель может поднять из-за этого шум. Происшествие, подобное этому, рядовое для повседневной жизни, оказавшееся перенесенным из координат магазина в координаты церкви в канун великого праздника, оборачивается в результате карнавальной сценой «выворачивания наизнанку» традиционных жизненно-нравственных ценностей, для рассказчика «пасхальный случай» становится важнее Пасхи, затмевая смысл праздника.
Священнослужители, являясь главными фигурами в обычной церковно — официальной жизни, теперь, в этой карнавализованной интермедии, уступают главную роль обывателю-профану, не обладающему никакими социальными «регалиями». Так проявляет себя главная идея карнавала — инверсия общественного статуса: «Церковные служки становятся прелатами, ремесленники — «рыцарями без страха и упрека», а шуты и захудалые простолюдины — королями» [1, с. 146]. Главным в этом праздничном действе становится, таким образом, герой-рассказчик, которого на карнавале назвали бы шутом. Он олицетворяет известную свободу действий и слова, стоящую над общеустановленными обычаями и нравственными нормами. На официальных церемониях, как правило, от человека ждут определенного рисунка поведения. Так, присутствуя на празднике, герой должен был бы вести себя как все остальные, выполняя все надлежащие по ритуалу действия. Но происшествие, случившееся с ним, нарушает привычный порядок вещей. Оно становится как бы знаком для начала его карнавализованного выступления, для его шутовского преображения. В этот момент он и священнослужители меняются местами, теперь не они определяют сценарий праздника, а герой выстраивает сюжет представления, дальнейшее развертывание событий зависит от его импровизаций: своими преувеличенно возмущенными репликами («Мне с твоего извинения не шубу шить. Пущай мне теперь полную стоимость заплатят. Клади, — говорю, — отец дьякон, деньги на кон!» [4, с. 108]) он прерывает шествие, вызывает бурную дискуссию («Ну, пря поднялась. Кто за меня, кто против меня» [Там же]), он же определяет, когда вновь начать службу («Обожди, Вавилыч, звонить. А то под звон они меня тут совсем объегорят» [Там же]). Тем самым герой словно «выворачивает наизнанку» реальность, выбивает ее из проложенной регламентированной колеи и переводит в пародийно-травестийный план.
Официально-ритуальное действо превращается здесь в «зону фамильярного контакта» (М.М. Бахтин), где обмирщается и профанически снижается смысл происходящих событий. И снижение это носит оксюморонно-карнавализованный характер; показательны в этом отношении реплики героя, отражающие народно-площадные речевые формы, например, то, как герой-рассказчик называет и описывает «служителей церкви»: «И вижу, сам батя с кисточкой прется»; «А позади бати отец дьякон благородно выступает с блюдцем, собирая пожертвования» [4, с. 107]. Тон официального праздника обычно монолитно серьезный, отношение людей к батюшке, дьякону во время совершения церковных обрядов подчеркнуто почтительное. Нельзя сказать, что герой относится к ним иначе, что он намеренно пренебрежителен или агрессивен. Напротив, «батя», «отец дьякон» поначалу звучит в его устах по-свойски, даже с оттенком интимности и родства. Но тем не менее, оксюморонно соединяя в одном контексте традиционно-высокое и обыденно-низкое («И вижу, сам батя с кисточкой прется»), герой не просто стирает грань между священнослужителями и собой, не просто ставит себя наравне с ними или их наравне с собой, но тем самым профанирует, развенчивает и «остраняет» их привычно-ритуальные образы.
Карнавальный злоязычный фигляр легко превращает самое святое и возвышенное, что есть в духовных или светских сферах жизни, в низменное. Показательно в этом отношении характерное для фамильярно-площадной речи частое употребление героем ругательств, бранных слов и целых бранных выражений. Когда «отец дьякон» наступает на его кулич («Проходят они мимо меня, а отец дьякон зазевался на свое блюдо и — хлоп ножищей в мою тарелку» [4, с. 108]), герой обрушивается на него, как на разбойника, эмоциональным каскадом упреков и обвинений, наделяя фамильярно-бранными прозвищами («длинногривый», «сукин кот», «длинногривый дьявол»): «Ты что ж, — говорю, — длинногривый, на кулич-то наступаешь?. В пасхальную ночь»; «Мне, — говорю, — наступили. Дьякон, — говорю, — сукин кот, наступил»; «А дьякон, длинногривый дьявол, прислонился к забору и щепочкой мой кулич с сапога счищает» [4, с. 108]. Для героя, как для карнавального шута, в данный момент не важно, кто перед ним — церковный служитель, светская особа или обычный парнишка с соседнего двора. Уравнивая собеседников безотносительно их социального или общебытийного статуса, герой тем самым выявляет еще одну особенность карнавального мироощущения: упразднение любых иерархических отношений между людьми, и, более того, разрушение любых дистанций между разными бытийными сферами: сакральными и профанными, высокими и низкими, духовными и материальным и т .д. В карнавализованном пространстве жизни все они приобретают равные права и равномасштабный статус. Поэтому спор между героем и дьяконом о выплате денег за раздавленный кулич не воспринимается как низменно-материальный жест, а решается всем миром, всеми присутствующими: «Ну, пря поднялась. Кто за меня, кто против меня» [4, с. 108]. Сакральный церемониал перерождается в почти семейно-бытовую ситуацию, амбивалентную по своему смыслу: с одной стороны, разрушен обрядово-высокий сценарий с его заведомой регламентацией, с другой, происшедшее порождает и неожиданно созидательный результат. Каждый персонаж из сферы формализовано-ритуального поведения и мировосприятия переключается в сферу живого неформального общения и самовыражения, пусть даже по совершенно фарсовому поводу; священный Праздник, который почти перестал восприниматься как праздник, вновь обрел праздничную окраску, пусть даже карнавализованную. В подтексте изображенного карнавализованного действа обнаруживается: важно не то, кем ты считаешь себя — верующим или атеистом, духовной особой или обывателем, важно в любом случае и в любой ситуации не быть «баранами» («Которые верующие, те, что бараны, потащат свои куличи святить»), слепо-формализованно, механически следующими за регламентированными сценариями.
Таким образом, в рассказе М. Зощенко в результате карнавального остранения ситуации «оживляется» ритуал и его смысл. Рассказчик, переживая и описывая «пасхальный случай», останавливает внимание не столько на торжественно-сакральном значении и характере обряда, сколько на его обратных, житейски-бытовых сторонах, автору же важно осмыслить именно взаимодействие этих противоположных сфер. Это взаимодействие перерастает в столкновение и конфликт и оказывается не только не вписывающимся в контекст великого праздника, но комически снижающим его серьезно-торжественный ритуал; в конечном итоге конфликт между бытовым и сакральным обнажает противоречие между формальной и содержательной стороной церемониала, а карнавализация конфликтной ситуации дает возможность разрешения и преодоления противоречия. Аналогичную проекцию карнавальной логики в реалии современной Зощенко эпохи, помогающую осмыслить суть исторических противоречий и перемен, мы найдем и в других рассказах писателя, в том числе, и в рассказе «На дне».
Как мы уже говорили, карнавализованный мир — это мир, где всё и все меняются своими местами: официальная идеология разрушается, низ становится верхом, верх — низом, шут становится королем, король — шутом. Подобное перевернутое сознание, на наш взгляд, становится сюжетообразующим началом в рассказе «На дне».
С точки зрения поэтики карнавала в рассказе «На дне» носителем шутовского начала является главный герой, в обычной жизни — «почтенный папаша и прекрасный работник строительного сектора тов. Ф.» [4, с. 239]. По сюжету он опускается на самое «дно жизни»: от уважаемого гражданина и примерного семьянина до «горького пропойцы», лишившегося всего, даже своей одежды. В контексте карнавализованной символики рассказа его героя, «тов Ф.», условно можно назвать королем, который на время изображаемых событий обращается в шута. В соответствии с карнавальной традицией примеривание королем шутовского колпака и роли шута представляет собой важный элемент, ознаменовывающий начало народно-площадного гуляния, это так называемое увенчание героя. Итак, тов Ф., условно названный нами королем, метафорически участвует в подобном ритуальном действе: логика изображения героя и происходящих с ним событий у Зощенко такова, что в ассоциативно-метафорическом контексте произведения она уподобляется логике карнавализованно-обрядовых действ. Рассмотрим подробнее сюжетные ситуации, отражающие эти логические связи и взаимоотражения.
«Один гражданин, некто Ф., немного выпил. Он получил деньги, зашёл в какой-то приятный восточный уголок, присел там под пальму и, как говорится, немножко перелил через край. <…> По его словам, он пропустил только пару стопок русской горькой и после слегка отлакировал пивом. Так что, кто его знает, может быть, он действительно от обильной еды, чем от чего другого, совершенно захмелел. И даже начал соло петь под оркестр. <…> И сам он еле «мама» сказать может... <…> вдохновился, выпил ещё и надрался, как говорится, до шариков» [4, с. 238]. Из приведенной здесь цитаты создается впечатление о герое как о беспечном человеке, который любит выпить, да так, что вообще не в состоянии контролировать себя; перед читателем возникает откровенно комический, и даже эксцентрический, образ, не соответствующий изначальному, вполне почтенному и солидному статусу «гражданина Ф.». Герой явно оказывается в «шутовском колпаке», исполняя роль, ему не свойственную.
Ситуация «шут в королевской среде» и «король в шутовском колпаке» художественно обыгрывается Зощенко через контрапункт стилей — как жизненно-бытовых, так и литературно-речевых. Согласно своему почтенному статусу, герой приходит в дорогой ресторан, о чем свидетельствует ряд стилистически обыгранных деталей: пальма, мандарины, восточная атмосфера, оркестр и т. п. Однако рисунок его поведения в этом аристократическом месте больше соответствует «стилю» забегаловки или трактира. В данном случае можно говорить еще об одном важном элементе карнавала: поэтике несоответствия одних деталей образа другим, в результате чего в тексте Зощенко возникает художественное явление, которое можно назвать карнавализованным оксюмороном. Отметим, что речь здесь идет именно об оксюморонной природе данного образа, а не о его амбивалентности, хотя последнее в большей мере свойственно карнавальному миру. Объяснить это можно тем, что Зощенко создает не стилизацию, и не подражание карнавалу, а изображает момент рождения карнавализованных образов в самой живой непосредственно данной действительности; мир рассказа Зощенко — именно карнавализованный, а не карнавальный мир (т. е., понимаемый как похожий на карнавал, но не механически копирующий его и не тождественный ему). Оксюморон здесь перерастает в стилевой контрапункт, но не обретает карнавальной амбивалентности, оставаясь существовать на границе двух миров: реально-эмпирического и карнавализованного.
Проследим, как развивается обозначенный нами стилевой контрапункт в тексте рассказа. Заметим, что повествовательная инверсия в самом начале изображаемого эпизода также может быть воспринята как знак — знак пересечения читательским сознанием смысловой границы между реально-бытовым и художественно-условным, карнавализованным миром, а также и как знак актуализации этой границы. «Один гражданин, некто Ф., немного выпил. Он получил деньги, зашёл в какой-то приятный восточный уголок, присел там под пальму и, как говорится, немножко перелил через край. <…> И даже начал соло петь под оркестр. <…> Cидит против них «пассажир», кругом у него на столике еда и мандарины. И сам он еле «мама» сказать может.<…> И они задумали совершить своё тёмное дело над заблудившим зажиточным жителем нашего города. <…> И тот, увидев ласку чужих людей, вдохновился, выпил ещё и надрался, как говорится, до шариков» [4, с. 238]. Цитируемый фрагмент начинается с парадоксальной перестановки описываемых событий и их повествовательного удвоения: сначала мы узнаем, что гражданин Ф. немного выпил, затем автор вновь рассказывает о тех же фактах, но уже возвращаясь к событиям, предшествующим непосредственному началу эпизода. Здесь мы находим не только инверсию экспозиции и завязки, но и характерный именно для литературных текстов (а не для устной разговорной речи) прием образной градации, и художественно-условную повествовательную тавтологию; все это формы образно-смыслового остранения и карнавализации изображаемой ситуации. Встреча двух разных социокультурных сфер с присущими им стилями поведения и речи порождает эффект карнавализации — и ситуации, и образов, отражающих эту ситуацию.
Еще один карнавализованный мотив, выявляемый в образной системе произведения, — ключевой для карнавальной традиции мотив одевания-раздевания, также представленный в рассказе через ряд оксюморонных и контрапунктных деталей. Подобный контрапункт отчетливо обнаруживается, например, в следующем фрагменте описания злоключений героя: «оставили нашего почтенного папашу и прекрасного работника строительного сектора тов. Ф. совершенно в архиневозможном виде» [4, с. 239]. Здесь ассоциативно угадываются детали, связанные и с образом развенчания-раздевания короля, и с карнавальным ряжением, и с образом шута, являющегося на публику без одежды. Появление героя рассказа в подобном виде вызывает живую реакцию окружающих: «Представляем себе, как дворник у ворот удивился. Наверное, хрюкая от смеха, пропустил в калитку. Но вот момент входа в квартиру и момент появления перед родными вообще не поддаётся художественному описанию. И мы смолкаем под давлением более красочной действительности» [4, с. 239]. Этот смех — реакция не столько на «архиневозможный вид»героя, сколько на карнавальное несоответствие двух образов: «почтенного работника» и «забулдыги-пьяницы», — воспринимаемых в контексте рассказа как условная проекция образов «короля» и «шута». Перед нами не просто комическая ситуация, видимая автором и читателем, но сцена, отражающая стихии карнавально-площадного «комоса»: смех толпы, «общенародный смех» (М.М. Бахтин), редуцированно представленный здесь через образы дворника, родственников, самого рассказчика, всех, кто, по-видимому, мог повстречать героя в столь эксцентрическом виде. Кроме того, смех здесь карнавально-амбивалентен: одновременно принижающий и добродушный; именно такой народный двусторонний смех и лежит в основе традиционных народно-праздничных карнавальных действ.
Поэтика несоответствий, инверсий, образы перевернутого мира в рассказе достигают кульминации в эпизодах следствия по делу ограбленного гражданина Ф. Здесь нарушаются все привычные закономерности: «Ненормально. Вещи есть. Воры есть. Всё как будто в полном порядке. А потерпевшего нету» [4, с. 240]. Герои словно меняются ролями, грабители начинают выполнять функции потерпевшего:
«Была устроена очная ставка с ворами. И те сразу признали в нём свою жертву.
Один из воров говорит:
— Это определённо он. Я его по скуле узнаю. Вот у него тут осталась заметка от моей руки» [4, с. 240].
Пострадавший же ведет себя как обвиняемый: «Искали потерпевшего. Выясняли и запрашивали. Никто не признаётся»; «Потерпевший отнекивался и всех уверял, что это не он был избит и раздет»; «Тогда жертва, потупив очи, говорит: «В таком случае сознаюсь. Это был я» [4, с. 241]. На первый взгляд, перед нами нелепая и абсурдная ситуация, но абсурд этот выдержан в духе карнавальной традиции, для которой инверсия ролей и «выворачивание мира наизнанку» внутренне закономерны и отражают особую логику создаваемого карнавалом мира. Заметим, что ролевая инверсия в данном случае имеет двойную, перекрещивающуюся в смысловом плане, мотивировку: реально-психологическую (герою стыдно признать себя в роли пьяницы-шута) и карнавализованную: по законам карнавала король может превратиться в шута, но не в жертву, и в условно-метафорическом контексте рассказа сопротивление героя мотивировано логикой этой реальности.
Таким образом, мы можем сказать, что в рассказе «На дне» отчетливо отражены особенности карнавализованной поэтики, характерной для комических произведений М. Зощенко, множество элементов и деталей, выдержанных в духе народно-карнавальной традиции: ритуальный смех, инверсия ролей, отмена иерархии и официальности и др. Это позволяет говорить о сложной образно-смысловой организации рассказов писателя, где в художественном контрапункте, в диалогических взаимоотражениях встречаются и пересекаются две реальности: непосредственно-эмпирическая, социально-бытовая, и эстетически-осознанная, карнавализованная.
Жизнь зощенковских героев необычна, с нашей точки зрения, вывернута наизнанку, запутана, социально-иерархические отношения утратили здесь свою упорядоченность. Скорее всего, возможность такой откровенной карнавализации мира Зощенко находил в самих объективных социально-исторических условиях того времени. Революция все изменила, и художественный мир Зощенко являет собой неординарное объяснение того, что произошло с Россией в 1917 году. Это эпоха становящаяся, перешагнувшая некий рубеж и не имеющая возможности куда-то устойчиво ступить. Мир сдвинулся с места и вступил в некое промежуточное, переходное, изменчивое состояние, подобное тому, в котором существует карнавальная жизнь. Таков, на наш взгляд, той равномасштабности логики карнавала и реальной действительности, которую мы обнаруживаем в поэтике Зощенко.
Список литературы:
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. — 541 с.
- Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Феникс, 2004. — 393 с.
- Даркевич В.П. Народная культура средневековья. М.: Наука, 1988. — 341 с.
- Зощенко М.М. Рассказы. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988. — 304 с.
- Ибатуллина Г.М. Жанровый архетип мениппеи в поэтике комической новеллы М. Зощенко // Вестник Удмуртского университета. История и филология. —2010. Вып. 4. — С. 34—45.
дипломов
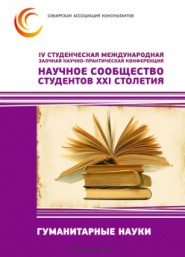

Оставить комментарий