Статья опубликована в рамках: CXLV Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 16 января 2025 г.)
Наука: Филология
Секция: Лингвистика
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
АНАЛИЗ РЕЧИ АДВОКАТА КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА ЮРИСТА
ANALYSIS OF A LAWYER'S SPEECH AS A MEANS OF IMPROVING A LAWYER'S ORATORY SKILLS
Alena Elsukova
student of gr. 221, Kazan branch of the Russian State University of Justice,
Russia, Kazan
Marina Semenova
scientific supervisor, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior lecturer at the Department of General Education, Kazan branch of the Russian State University of Justice,
Russia, Kazan
АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ ораторского мастерства адвокатов как фундаментального элемента в судебной защите и влияния на исход дела. Основываясь на примере защиты Веры Засулич, автор рассматривает роль выразительных средств и аргументации в речи адвоката. Вывод заключается в значимости юридической риторики, основанной на знании закона и искреннем стремлении к справедливости. Автором исследуется, как мастерство в ораторском искусстве помогает адвокату эффективно представлять интересы клиента, привлекая внимание суда и влияя на его решение.
ABSTRACT
The article analyzes the oratory skills of lawyers as a fundamental element in judicial defense and influence on the outcome of the case. Based on the example of Vera Zasulich's defense, the author considers the role of expressive means and argumentation in the lawyer's speech. The conclusion is the importance of legal rhetoric based on knowledge of the law and a sincere desire for justice. The author investigates how mastery in oratory helps the lawyer to effectively represent the interests of the client, attracting the attention of the court and influencing its decision.
Ключевые слова: ораторское мастерство, адвокат, судебная защита, юридическая риторика, выразительные средства, аргументация, правовая коммуникация, справедливость, эффективность защиты, влияние на исход дела.
Keywords: oratory, lawyer, court defense, legal rhetoric, expressive means, argumentation, legal communication, justice, effectiveness of defense, influence on the outcome of the case.
В рамках судебной защиты (Конституция РФ, ч.2 ст.45), гарантированной Конституцией РФ (ч.1 ст.46.), адвокат играет основную роль в эффективном использовании процессуальных прав своего подзащитного. Именно с помощью адвоката человек в полном объёме использует процессуальные права, которые ему принадлежат, имеет возможность активного участия в исследовании материалов дела. В судебном следствии задача адвоката – расположить участников процесса к себе и личности подсудимого. В то же время эффективность адвоката в суде напрямую связана с его ораторскими способностями: умением аргументированно и убедительно представлять интересы подзащитного, привлекая внимание и вызывая доверие суда. Важно, чтобы речь адвоката основывалась на правде и законных доказательствах, отражая искреннее стремление к справедливости. Судебная практика показывает, что мастерство адвоката в ораторском искусстве непосредственно влияет на исход судебных разбирательств. В данной статье благодаря анализу речи адвоката Веры Засулич автор рассматривает, какие инструменты помогают адвокату в сложных делах [11].
Судьба обвиняемого напрямую зависит от выступления его адвоката. Так и жизнь Веры Засулич сложилась бы по-другому, если бы не убедительная и профессиональная речь её адвоката Петра Акимовича Александрова. Преступление Засулич квалифицировалось как умышленное, с заранее обдуманным намерением. Но благодаря своему адвокату Вера Засулич была оправдана. Речь П.А. Александрова [9] была построена на анализе не столько юридических аспектов дела, сколько нравственных и общественно-политических. Адвокат подробно рассказал присяжным о жизни Веры, чтобы они могли не только увидеть ситуацию со стороны, но и понять личные чувства и мотивы Засулич. Александров использовал в своей речи многочисленные средства выразительности, что сыграло большую роль в его выступлении.
Обратимся к тексту [1] речи П.А. Александрова для анализа лексических и синтаксических средств выразительности. Так, в речи встречаются следующие тропы:
- метафора [12]: «Закон, карающий может отнять внешнюю честь, все внешние отличия, с ней сопряженные, но истребить в человеке чувство моральной чести, нравственного достоинства судебным приговором, изменить нравственное содержание человека, лишить его всего того, что составляет неотъемлемое достояние его развития, никакой закон не может. И если закон не может предусмотреть все нравственные, индивидуальные различия преступника, которые обусловливаются их прошедшим, то является на помощь общая, присущая человеку, нравственная справедливость, которая должна подсказать, что применимо к одному и что было бы высшею несправедливостью в применении к другому»; «Месть стремится нанести возможно больше зла противнику; Засулич, стрелявшая в генерал-адъютанта Трепова, сознается, что для нее безразличны были те или другие последствия выстрела. Наконец, месть старается достигнуть удовлетворения возможно дешевою ценой, месть действует скрытно, с возможно меньшими пожертвованиями»; «Рисовалась возмущающая душу картина»; «И ожидания оставались ожиданиями. А мысли тяжелые и тревоги душевные не унимались. И снова, и снова, и опять, и опять возникал образ Боголюбова и вся его обстановка. Не звуки цепей смущали душу, но мрачные своды мертвого дома леденели воображение; рубцы - позорные рубцы - резали сердце, и замогильный голос заживо погребенного звучал: Что ж молчит в вас, братья, злоба, Что ж любовь молчит?» [9]. Через метафоры адвокат не только усиливает наглядность описываемого, но и выражает собственную оценку событий.
- сравнение: «Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду; она ими освещается и обсуждается; обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе храма, под горой». В этом развёрнутом сравнении «всякое должностное лицо» сопоставляется с Янусом, богом дверей, входов, выходов в древнеримской мифологии. Поэтому стоит сказать и об используемой в данном сравнении аллегории. «Перед окнами женских арестантских камер, в виду испуганных чем-то необычайным происходящим в тюрьме женщин, вяжутся пуки розог, как будто бы драть предстояло целую роту…» [9]. Этим же сравнением Александров описывает жестокость и бесчеловечность наказания, постигнувшего Боголюбова.
- метонимия. Так, система наказания розгами обознается одним существительным «розга»: «Да позволено мне будет, прежде чем перейти к этому известию, сделать еще маленькую экскурсию в область розги. <…> Нет, не историю розги хочу я повествовать перед вами, я хочу привести лишь несколько воспоминаний о последних днях ее жизни. <…> Розга царила везде: в школе, на мирском сходе, она была непременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении... Существовало сказание – апокрифического, впрочем, свойства, - что где-то русская розга была приведена в союз с английским механизмом, и русское сечение совершалось по всем правилам самой утонченной европейской вежливости» [9].
Мысли, идеи и рассуждения человека объединены одним словом «мысль»: «Мысль сразу овладевает человеком, не его обсуждению она подчиняется, а подчиняет его себе и влечет за собою. Как бы далеко ни отстояло исполнение мысли, овладевшей душой, аффект не переходит в холодное размышление и остается аффектом. Мысль не проверяется, не обсуждается, ей служат, ей рабски повинуются, за ней следуют. <…> Следует ли или не следует выполнить мысль, - об этом не рассуждают, как бы долго ни думали над средствами и способами исполнения» [9].
- ирония: «Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые мечты волновали ее в стенах Литовского замка и казематах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за тюремной стеной». Выделенные слова здесь употреблены не в прямом, а в переносном, саркастическом значении.
Речь адвоката наполнена и синтаксическими средствами выразительности:
- анафора: «Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все: политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам, - представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Засулич - она сама, ее горькое прошедшее, ее собственная история - история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. Политический арестант был для Засулич – горькое воспоминание ее собственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: Что я сделала? Что будет со мной? Когда же наступит конец? Политический арестант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре»; «Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый розги; человек, глубоко чувствующий и понимающий все ее позорное и унизительное значение; человек, который по своему образу мыслей, по своим убеждениям и чувствам не мог без сердечного содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции над другими, - этот человек сам должен был перенести на собственной коже всеподавляющее действие унизительного наказания»; «Лишение всех прав и каторга - одно из самых тяжелых наказаний нашего законодательства. Лишение всех прав и каторга одинаково могут постигнуть самые разнообразные тяжкие преступления, несмотря на все различие их нравственной подкладки» [9]; «Вот он, приведенный на место экзекуции и пораженный известием о том позоре, который ему готовится; вот он, полный негодования и думающий, что эта сила негодования даст ему силы Самсона, чтоб устоять в борьбе с массой ликторов, исполнителей наказания; вот он, падающий под массой пудов человеческих тел, насевших ему на плечи, распростертый на полу, позорно обнаженный несколькими парами рук, как железом, прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться…» [9]. Анафоры придают речи эмоциональности и выразительности. Кроме того, их использование усиливает драматический эффект.
- умолчание: «Она ждала, наконец, слова от правосудия. Правосудие... Но о нем ничего не было слышно.»; «Раздался выстрел... Не продолжая более дела, которое совершала, довольствуясь вполне тем, что достигнуто, Засулич сама бросила револьвер, прежде чем успели схватить ее, и, отойдя в сторону, без борьбы и сопротивления отдалась во власть набросившегося на нее майора Курнеева и осталась не задушенной им только благодаря помощи других окружающих» [9]. Эти фигуры обозначаются психологическими паузами и тем самым поддерживают интригу повествования.
- парцелляция: «Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видится только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем, время от времени, в дверное окно, чтобы узнать, что делает арестант. Звук отворяемых и затворяемых замков, бряцание ружей сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныло-музыкальный звон часов Петропавловского шпица». Такой приём подчёркивает значение выделенных сочетаний слов, а также усиливает выразительность всего текста. Адвокат хотел остановить внимание участников судебного процесса на суровых условиях в тюремной камере, поскольку через всё это прошла Вера Засулич [12].
- риторические вопросы: «Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?»; «Ей сказали: "Иди", - и даже не прибавили: "И более не согрешай", - потому что прегрешений не нашлось, и до того не находилось их, что в продолжение двух лет она всего только два раза была спрошена, и одно время серьезно думала, в продолжение многих месяцев, что она совершенно забыта: "Иди". Куда же идти?»; «Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее родственником, другом, он не был ее знакомым, она никогда не видала и не знала его. Но разве для того, чтобы возмутиться видом нравственно раздавленного человека, чтобы прийти в негодование от позорного глумления над беззащитным, нужно быть сестрой, женой, любовницей?»; «Но кто и как изгладит в его сердце воспоминание о позоре, о поруганном достоинстве; кто и как смоет то пятно, которое на всю жизнь останется неизгладимым в его воспоминании? Наконец, где же гарантия против повторения подобного случая?».
Сочетание средств выразительности и аргументации придаёт речи особую убедительность [5]. Слова оказались способны воздействовать не только на разум слушателей, но и на их чувства. Адвокат успешно сочетал рациональное и эмоциональное воздействие на присяжных, что привело к оправданию его подзащитной.
В своей речи Пётр Акимович Александров не делает ни одной ссылки на конкретные нормы права. А там, где он всё же касается юридического аспекта, то делает это наиболее выгодным для своей подзащитной. Так, адвокат указал, что в результате инцидента никто не погиб, а умысел убийства не был доказан. Однако выстрел действительно был произведён, но результатом стало лишь ранение, не угрожающее жизни. Значит, покушения на убийство не было, и ответственность должна рассматриваться только в контексте этого последствия [5]. А как можно сравнивать это последствие с благородными мотивами этой девушки, которая познала на своём опыте пребывания в тюрьме весь ужас унижения человеческого достоинства, которая пожертвовала своей свободой и, возможно, даже жизнью в защиту угнетённых? Присяжных заседателей это впечатляло. На первый же вопрос председателя суда, виновна ли девушка в том, что она сделала, они ответили: «Нет, не виновна». Таким образом, по делу Засулич общество сделало выбор не в пользу власти, оно согласилось с тем, что юридические государственные законы становятся ничтожными перед преобладающим общественным настроем, перед благородными и высокими мотивами.
Возвращаясь к адвокату Александрову, ещё раз следует отметить, что его речь была построена на анализе не столько юридических аспектов дела, сколько нравственных. Защитник во время своего выступления оказывал эмоциональное воздействие на присяжных, подробно рассказывая о тяжёлой жизни Веры Засулич, вызывая сожаление и сочувствие к личности девушки, используя множество средств выразительности. Говоря о таких свойствах речи адвоката, стоит привести пример из русской художественной литературы, а именно из рассказа Антона Павловича Чехова «Случай из судебной практики». Обвиняемого мещанина защищал «знаменитейших и популярнейший» адвокат. Его речи производили невероятное впечатление и оказывали сильнейшее эмоциональное влияние на присутствующих («Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух дам. Председатель оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, навернувшейся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол… Слезы засверкали сквозь его очки»). Так же, как и Александров, адвокат из рассказа Чехова не касается юридической стороны дела, а опирается больше на психологию, тем самым располагая участников судебного процесса к себе и своему подзащитному. Самым распространённым средством выразительности в его речи является умолчание («Их здесь нет, но вы можете себе их представить. (Пауза.) Заключение… Гм… Его посадили рядом с ворами и убийцами… Его! (Пауза.) Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы…»). Именно этим приёмом адвокат добавляет своим словам драматичности, заставляя всех присутствующих (включая самого обвиняемого) плакать. В конечном счёте защитник своим выступлением вызвал чувство раскаяния у обвиняемого, что позволяет сделать вывод об огромном нравственном воздействии речи адвоката на людей.
Таким образом, анализ речи адвоката П.А. Александрова на примере защиты Веры Засулич показал, что выразительные средства являются неотъемлемой частью эффективной юридической речи. Они позволяют не только аргументированно излагать факты, но и пробуждать эмоции, заставляя переосмыслить установившиеся взгляды. Так, Александров показал обратную сторону преступления переходом на личность Веры Засулич, что послужило переломным моментом для некоторых присяжных заседателей и в корне изменило ход их мыслей.
Речь адвоката должна быть логичной и в то же время выразительной и яркой, должна пробуждать интерес, поэтому нельзя ограничиваться лишь юридической стороной дела. Описанные в статье инструменты демонстрируют значимость грамотного использования языковых возможностей в правовой риторике. Отдельно мы выделяем такой аспект как влияние ораторского искусства на судебные процессы. Ораторское мастерство адвоката становится решающим фактором в его способности влиять на исход дела, объединяя логику с эмоциональностью в убедительную речь.
Список литературы:
- Введенская Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. Пособие для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. Ростов-н/Д. : Феникс, 2007. 539 с.
- Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В.А. Власихи-на. М., 2011. 272 с.
- Ивакина Н.И. Основы судебного красноречия. Риторика для юристов : учеб. Пособие / Н.И. Ивакина. М., НОРМА, 2011. 592 с.
- Соловьев Н.В. Основы риторики. М., 2005.
- Карабчевский Н.П. Судебные речи : учебник. М. : Директ-Медиа, 2012. 504 с.
- Мельник В.В. Искусство речи в суде присяжных : учебно-практ. Пособ. / В.В. Мельник, И .Л. Трунов. М. : Юрайт, 2011. 662 с.
- Спасович, В.Д. Судебные речи / В.Д. Спасович. М. : ЮРАЙТ, 2010. 403 с. (Антология юридической мысли)
- Баев О.А. Ораторское искусство и деловое общение. М., 2002.
- Резник Г.М. Судебные речи известных русских юристов / Г.М. Резник // Сборник : в 2 ч. / Г.М. Резник. 2-е изд., испр. И доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. Ч. 1. 378 с.
- Ивакина Н.И. Основы судебного красноречия. Риторика для юристов : учеб. Пособие / Н.И. Ивакина. М. : НОРМА, 2011. 592 с.
- Ковалев А.Н. Логика. Ораторское искусство юриста : учебно-метод. Пособ. / А.Н. Ковалев, И.В. Галюк. Электрон. Текстовые данные. СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. 146 с. URL : http://www.Iprbookshop.ru/65483.html
- Стернин И.А. Речевое воздействие как теоретическая и прикладная наука / И.А. Стернин // Теоретические прикладные проблемы языкознания. Воронеж : Истоки. 2008. С. 238-353
дипломов
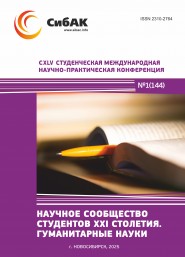

Оставить комментарий