Статья опубликована в рамках: CLI Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 17 июля 2025 г.)
Наука: Филология
Секция: Литературоведение
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
МЕЖДУ АБСУРДОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ: МНОГОЗНАЧНОСТЬ В РОМАНЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА „ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ”
BETWEEN ABSURDITY AND REALITY: THE POLYSEMY IN VLADIMIR NABOKOV’S NOVEL “INVITATION TO A BEHEADING”
Dinyési Zsófia
Student, Department of Slavic Studies, Péter Pázmány Catholic University,
Hungary, Budapest
Bukharbayeva Kuralay Nursainovna
Scientific supervisor, candidate of Philology, associate professor, Péter Pázmány Catholic University,
Budapest, Hungary
АННОТАЦИЯ
В рамках данной статьи анализируется многозначность романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь». В этом произведении сочетаются элементы абсурда, аллегории, метафизики и экзистенциальной философии. Особое внимание уделяется мотивам театральности и потусторонности, размывающим границы между иллюзией и реальностью. Через образы и символику раскрываются философские идеи, связанные с личной свободой, внутренним прозрением и преодолением тоталитарного и абсурдного мира. Роман трактуется не только как антиутопия, но и как глубоко метафизическое произведение, предлагающее читателю путь к самоинтерпретации и поиску истины. Многозначность становится ключевым художественным приёмом, позволяющим видеть в произведении Набокова не одну, а множественные параллельные реальности.
ABSTRACT
This article explores the polysemy of Vladimir Nabokov’s novel Invitation to a Beheading. The novel combines elements of absurdism, allegory, metaphysics, and existential philosophy. Particular attention is given to the motives of theatricality and otherworldliness, which blur the boundaries between illusion and reality. Through imagery and symbolism, the narrative reveals philosophical ideas related to personal freedom, inner enlightenment, and the overcoming of a totalitarian and absurd world. The novel is interpreted not only as a dystopia but also as a deeply metaphysical work that offers the reader a path toward self-interpretation and the search for truth. Polysemy becomes a central artistic device, allowing Nabokov’s work to be seen not as a single narrative, but as multiple parallel realities.
Ключевые слова: Владимир Набоков, Приглашение на казнь, многозначность, метафизика, антиутопия, театральность, потусторонность, экзистенциальные вопросы.
Keywords: Vladimir Nabokov, Invitation to a Beheading, polysemy, metaphysics, dystopia, theatricality, otherworldliness, existential questions
Роман Владимира Набокова «Приглашение на казнь», признанный одним из самых фантастических произведений писателя, пронизан уникальной атмосферой, которая с первого момента захватывает внимание читателей. В произведении, балансирующем на грани между абсурдом и реальностью, смысл становится неустойчивым, а различие между иллюзией и истиной стирается. Метафизика, которая пытается ответить на вопросы о природе существования за пределами физических законов, играет важную роль в творчестве Набокова. Как само содержание произведения, так и форма его выражения заставляют задуматься о возможных интеллектуальных ловушках и множестве интерпретаций. Эта «тайна» оказывается невыразимой.
Александров В. Е. понимает набоковскую метафизику как веру в существование трансцендентального, нематериального, вневременного и упорядоченного бытийного пространства, которое, вероятно, обеспечивает личное бессмертие и влияет на мир земного существования [1. c. 8-10]. Благодаря этому метафизическому характеру роман вызвал большой интерес и стал предметом анализа в литературной критике. Закрепилось восприятие произведения как «экзистенциальной метафоры, идеологической пародии, художественной антиутопии, сюрреалистического воспроизведения действительности, артистической судьбы, эстетической оппозиции реальности, тоталитарной замкнутости, свободы воображения» [2. c. 203]. Эти трактовки не исключают друг друга, а напротив, дополняют, раскрывая богатство художественного и смыслового содержания текста. Чем глубже читатели погружаются в мир Набокова, тем больше у них возникает вопросов о природе сюжета. Что означает приговор главному герою, Цинциннату Ц., и в чём заключается его «непрозрачность»? Является ли его преступление реальным, или же это лишь условность, навязанная абсурдным обществом? Чем завершается его история? Ответы на эти вопросы неоднозначны, и именно эта многозначность становится ключом к пониманию романа.
В рамках данной статьи попытаемся найти ответы на поставленные выше вопросы, исследуя ключевые многозначные мотивы и их интерпретации. Такой подход позволяет глубже проникнуть в смысл одного из самых значительных произведений литературы XX века.
Интерпретация антиутопии будущего и тоталитарного режима
По справедливому замечанию Александрова В.Е. «по жанру “Приглашение на казнь” ближе к аллегории, чем любой из набоковских романов» [1. c. 105], поскольку его скрытый смысл передаётся через образы, метафоры и символы. На первый взгляд, роман рассказывает о последних неделях жизни главного героя, Цинцинната Ц., приговорённого к смертной казни. Место, где происходят события романа, остается неопределённым, полным абсурда и гротеска. Этот абсурдный мир лишён логики и подчинён странным, нелепым правилам.
Общество, живущее в этом мире, напоминает цивилизацию будущего, которая вместо прогресса пережила регресс: люди стали «прозрачными», и, как сказал В. Варшавский: «осталась только поверхностная объективированная и социализированная кора сознания: самые элементарные одинаковые у всех впечатления и полученные от общества в готовом виде чувства и понятия, но нет ничего личного, непосредственного, никакой свободы» [3. c. 216].
В традиционной антиутопии, такой как “Мы” Евгения Замятина, общество будущего, развитое технологически, угнетается тоталитарной системой. Однако в мире Набокова жестокость проявляется иначе — через абсурд. Здесь заключённого не пытают, но его ожидание казни сопровождается показной заботой. Вежливость и напускная гуманность системы лишь подчёркивают её внутреннюю бесчеловечность. В произведении это проявляется, например, в том, что после вынесения смертного приговора Цинциннату долго не сообщают точную дату казни, откладывая её снова и снова. Новый заключённый, м-сье Пьер, который стремится подружиться с главным героем, позже оказывается его палачом. Несмотря на отсутствие прямого физического насилия, такие методы позволяют держать Цинцинната в постоянном страхе и подчинении [4. c. 110-111].
Подобные приёмы нередко применялись тоталитарными режимами. Сказанное выше позволяет предположить, что роман является аллегорическим отражением истории XX века. Однако эта интерпретация не совсем точна, поскольку произведение было закончено в 1934 году, когда ещё не было полной картины тех страшных событий, которые впоследствии раскрылись в XX-ом веке. В то же время сам Набоков в нескольких интервью намекал на обратное, утверждая, что он только пишет «ради удовольствия, ради трудности. У меня нет социальной цели, нет морального послания” [5. c. 3.]. Далее, когда ему задали вопрос: можно ли справедливо сказать, что “Приглашение на казнь” выстроен как пародийный антиутопический роман, в котором тоталитарное государство превращается в крайний и фантастический символ заточения разума, делая сознание, а не политику, главным предметом этого произведения? тогда он согласился с этой мыслью [5. c. 20].
Возвращаясь к размышлениям о “Приглашении на казнь”, можно отметить, что, хотя роман напоминает антиутопию, намекая на тоталитарные системы XX века, этот взгляд не охватывает его интерпретацию полностью из-за отсутствия некоторых характерных для жанра мотивов. Чтобы раскрыть более глубокий смысл, необходимо выйти за рамки очевидных интерпретаций и обратиться к другим мотивам, заложенным в тексте.
Мотивы театральности
Наряду с упомянутыми фонами в романе отчетливо проявляются театральность и потусторонность, играющие ключевую роль в создании атмосферы абсурда, аллегоричности и метафизической загадочности.
Атмосфера романа создает такое впечатление, как будто персонажи вокруг Цинцинната Ц. являются актерами, исполняющими заранее предписанные роли. В этом причудливом мире всё кажется лишь искусственной постановкой. Граница между реальностью и иллюзорным размыта, и сам Цинциннат не имеет влияния на события происходящие с ним. Он, как зритель в театре абсурда, оказывается запертым в мире, где даже его приговор и ожидание казни превращаются в часть спектакля. Эту мысль подтверждает цитата из романа, описывающая директора тюрьмы, в которой заключен главный герой: «Идеальный парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо, с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами» [6. c. 28]. Этот образ напоминает театральную маску, подчеркивая неискренность и гротескность окружающего мира.
Далее мотив театральности продолжается в образе супруги Цинцинната, Марфиньки. Сначала мы узнаем абсурдную деталь: она постоянно изменяет мужу. Ее отношение к Цинциннату лишено настоящего чувства, а сцена их встречи в тюрьме превращается вместо трогательного прощание в откровенный фарс: «На свидание явилась вся семья Марфиньки, со всею мебелью. Не так, не так воображали мы эту долгожданную встречу... Как они вваливались!» [6. c. 103]. Вопреки его ожиданиям трогательного момента прощания, Цинциннат сталкивается с нелепым спектаклем, где его собственные страдания оказываются незначительными, все вокруг него остаются равнодушными.
Театральность является важной для развития характера Цинцинната. Именно это искусственное окружение заставляет его найти внутреннюю силу освободиться от фальши. Цинциннат начинает осознавать, что его истинная свобода заключается в способности выйти за рамки этой театральной реальности.
Мотивы потусторонности
С самого начала романа через разговоры о смерти, жизни, времени и вечности закладывается его философская основа, позволяющая читателю погрузиться в атмосферу экзистенциальных размышлений. Эти темы пронизывают весь сюжет, заставляя задуматься о природе человеческого существования, его конечности и возможном преодолении материальных ограничений. Особое место в произведении занимает образ Цинцинната как пленника крепостного лабиринта, что перекликается с гностическими идеями. Согласно им, человек оказывается в западне порочного материального мира, а его тело становится тюрьмой для души, заключая ее в границах иллюзорного бытия.
Наличие гностических мотивов в целом ряде произведений Набокова наводит на мысль, что некоторые аспекты этого мировоззрения были ему близки. В «Приглашении на казнь» гностическая символика приобретает особую значимость, поскольку сам мир, в котором существует Цинциннат, представлен как зыбкий, искусственный и условный. Его тюремное заключение становится метафорой пребывания человека в иллюзорной реальности, откуда возможно освобождение лишь через внутреннее прозрение и осознание собственной истинной сущности [1. c. 105-106].
Наиболее откровенно смысл эпиграфа раскрывается в финале романа, когда Цинциннат, уже после казни, преодолевает свою смертную сущность. Набоков мастерски создает эффект наложения двух рядов действий, в которых участвуют два Цинцинната. Первый, следуя указаниям палача м-сье Пьера, считает до десяти. Второй слушает этот счет, а затем и вовсе перестает слышать его, даже после того, как топор опускается. Этот момент становится ключевым в осознании иллюзорности окружающей реальности: смертная казнь оказывается лишь сценическим действием, за которым скрывается возможность выхода в иной, подлинный мир. Внезапно с веселой ясностью герой осознает свое истинное положение и поднимается с плахи, преодолевая границы, наложенные на него обществом и его законами. О свершившейся казни и исчезновении смертного естества Цинцинната свидетельствует реакция зрителя: «скрюченный на ступеньке, блевал бледный библиотекарь» [6. c. 217].
Финальная сцена, где Цинциннат разрывает иллюзорные стены и выходит в «истинный» мир, подчеркивает условность существующего порядка и раскрывает основную идею романа: возможность выхода за пределы материального существования через духовное прозрение. Потусторонность проявляется в размытости границ между жизнью и смертью, реальностью и сном, что делает восприятие мира многослойным и неоднозначным. Мир романа населен призрачными, почти нематериальными фигурами, напоминающими тени или отражения, а сама тюрьма, в которой содержится герой, напоминает лабиринт, ведущий в неизвестность. Все это создает ощущение, что Цинциннат находится в переходном состоянии, между бытием и небытием, между сценой и подлинной реальностью, между тьмой невежества и светом истинного знания.
Таким образом, произведение «Приглашение на казнь» представляет собой не просто антиутопию, но и многослойную философскую аллегорию, в которой границы между реальностью и иллюзией, жизнью и смертью, подлинным и искусственным постоянно смещаются. Центральной мыслью романа становится метафизический путь Цинцинната, стремящегося к освобождению от абсурдного и тоталитарного мира через внутреннее прозрение и духовную трансценденцию. Театральность, потусторонность и гностическая символика служат средствами выражения этого пути. В итоге история превращается в приглашение к размышлению, сомнению и, в конце концов, к самоинтерпретации. Набоков не предлагает однозначных ответов, но обладает способностью пробуждать в читателе чувство недоумения, поиска и стремления к истине. Многозначность романа становится не препятствием, а путём к подлинному пониманию: как самого произведения, так и вечности, скрытой за видимым.
Список литературы:
- Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика / пер. с англ. Н. А. Анастасьева. — СПб.: Алетейя, 1999. — 321 с.
- Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах Владимира Набокова. — М.: Новое литературное обозрение, 1998. — 208 с.
- Варшавский В. С. Незамеченное поколение. — Нью-Йорк, 1956. — 387 с.
- Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. — СПб.: Академический проект, 2004. — 401 с.
- Nabokov V. Strong Opinions. — 1st Vintage International ed. — New York: Vintage International, 1973. — 335 с.
- Набоков В. В. Приглашение на казнь: роман. — Париж: Editions Victor, 1964. — 218 с.
дипломов
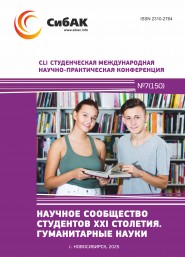

Оставить комментарий