Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 30(326)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: ПЕРЕХОД К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются недавние трансформации уголовного законодательства в сфере налоговых правонарушений, с особым акцентом на либерализационные изменения, введённые в 2023 году — в частности, снижение максимальных сроков лишения свободы и институт прекращения уголовного преследования при полном погашении налоговой задолженности. Выявлен устойчивый тренд на смягчение уголовной ответственности за экономические преступления, обусловленный, прежде всего, задачами поддержки бизнеса в условиях внешнего давления. Вместе с тем автор обосновывает, что дальнейшее ослабление карательных мер без введения альтернативных, но значимых форм ответственности противоречит принципам справедливости, неотвратимости наказания и превентивной функции права. Предлагается заменить «финансовое прощение» на комплексную систему последствий — административных, хозяйственных и контролирующих — способных не только компенсировать ущерб бюджету, но и обеспечить реальное исправление правонарушителя и предупреждение повторных нарушений, тем самым восстанавливая баланс между экономическими стимулами и требованиями правосудия.
ABSTRACT
The article examines recent transformations in criminal legislation concerning tax offenses, with particular emphasis on the liberalizing amendments introduced in 2023 — notably, the reduction of maximum imprisonment terms and the establishment of a mechanism for terminating criminal prosecution upon full repayment of tax arrears. A consistent trend toward the mitigation of criminal liability for economic crimes is identified, primarily driven by the need to support businesses under external pressure. However, the author argues that further weakening of punitive measures — without introducing alternative yet meaningful forms of accountability — undermines the principles of justice, inevitability of punishment, and the preventive function of law. Instead of mere “financial absolution,” the article proposes a comprehensive system of consequences — administrative, operational, and supervisory — capable not only of compensating budgetary losses but also ensuring genuine correction of offenders and deterring future violations. This approach aims to restore equilibrium between economic incentives and the fundamental demands of justice.
Ключевые слова: налоговые преступления, либерализация законодательства, уголовное право, уклонение от уплаты налогов, смягчение уголовной ответственности, налоговое правонарушение.
Keywords: tax crimes, liberalization of legislation, criminal law, tax evasion, mitigation of criminal liability, tax offense.
Современная российская уголовно-правовая политика демонстрирует выраженный дуализм: в то время как нормы, направленные на защиту государственной власти, безопасности и конституционного строя, последовательно ужесточаются, в сфере экономических преступлений, напротив, наблюдается устойчивая тенденция к смягчению ответственности. Этот контраст особенно ярко проявился в 2023 году, когда Федеральным законом № 78-ФЗ от 18 марта были внесены существенные изменения в нормы Уголовного кодекса РФ, регулирующие ответственность за налоговые правонарушения.
В частности, по статье 199 УК РФ максимальный срок лишения свободы за уклонение от уплаты налогов был снижен с шести до пяти лет, а также впервые в российской правовой практике был введён механизм прекращения уголовного дела или отказа в его возбуждении при условии полного погашения налоговой задолженности, включая пени и штрафы. Аналогичные смягчения были распространены и на смежные составы преступлений — статьи 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества) и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов), где максимальные сроки наказания были сокращены на один-два года.
Официальной причиной либерализации называется необходимость поддержки отечественного бизнеса в условиях внешнего давления — санкционного режима, введённого западными странами после 2014 года, и последующей экономической перестройки, вызванной уходом иностранных компаний и разрывом логистических цепочек. Как отмечает Милова П.С., именно с 2014 года начался системный процесс «декриминализации экономики», направленный на снижение уголовно-правового давления на предпринимателей с целью стимулирования экономической активности и предотвращения массового банкротства [2, с.112]. Однако, несмотря на благие намерения, практическая эффективность и юридическая обоснованность подобных мер вызывают серьёзные вопросы, особенно в свете судебной статистики и фундаментальных принципов уголовного права.
Анализ данных судебной практики за 2022-2023 [5] год показывает, что реальное лишение свободы за налоговые преступления применяется крайне редко. Так, по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение в особо крупном размере или группой лиц) из 103 осуждённых реальный срок получили лишь 13 человек (12,6%). По части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие имущества в особо крупном размере) — всего 4 из 79 (5%). По остальным составам, включая части 1 статей 199 и 199.2, а также все части статей 199.1 и 199.4, реальное лишение свободы не применялось вовсе. При этом подавляющее большинство осуждённых (до 90%) получали в качестве наказания штраф. Более того, доля налоговых преступлений в общей массе уголовных дел ничтожно мала — около 200 дел в год по статье 199 УК РФ на фоне почти 800 тысяч уголовных производств ежегодно, что составляет менее 0,03%. [5].
Даже если рассматривать динамику 2021–2032 гг., рост числа реальных сроков носит незначительный, почти статистический характер, не превышая 25 случаев в год по наиболее тяжким составам. Эти данные ставят под сомнение саму логику либерализации: зачем смягчать ответственность, если она и так фактически не применяется?
Неоднозначность нововведений продолжает новелла, закреплённая в пункте 7 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая позволяет прекращать уголовное дело при условии полной уплаты недоимки, пеней и штрафов. По сути, это превращает уголовное преследование в инструмент налогового взыскания, что противоречит самой природе уголовного права [1 c.133]. Уголовное наказание призвано не только компенсировать причинённый вред (в данном случае — пополнить бюджет), но и реализовывать цели общего и специального предупреждения, а также способствовать исправлению правонарушителя. В описанной модели лицо, совершившее преступление, не несёт никаких личных, нематериальных последствий: нет судимости, нет ограничений свободы, нет социального порицания. Это создаёт опасный стимул: оттягивать уплату налогов до последнего, зная, что уголовное дело — не угроза, а «финансовый триггер», активирующий возможность «откупиться». Такая модель не только подрывает принцип неотвратимости наказания, но и формирует неравенство перед законом — ведь избежать ответственности сможет только тот, кто имеет финансовые ресурсы.
В этой связи представляется необходимым не отказываться от уголовной ответственности, а трансформировать её в более сбалансированную систему, сочетающую финансовое воздействие с мерами, ограничивающими хозяйственную активность и усиливающими превентивный эффект.
Замена уголовной ответственности административной в сфере налоговых правонарушений — это не отмена наказания, а переход к более гибкой, быстрой и экономически рациональной системе воздействия. Вместо формального привлечения к уголовной ответственности, которая на практике почти не применяется, целесообразно перевести большинство составов (ст. 199 ч. 1, 199.1, 199.2 ч. 1, 199.4 УК РФ) в КоАП РФ, сохранив квалифицирующие признаки, но реализуя их через повышенные административные санкции. Это позволит сохранить неотвратимость ответственности, не разрушая бизнес и не создавая избыточного давления.
Административные меры должны выходить далеко за рамки штрафов. Необходимо ввести дифференцированные инструменты: штрафы в размере 200–500% от недоимки, запреты на участие в госзакупках, приостановление лицензий, ограничения на получение господдержки и вывод капитала, обязательный аудит и усиленная отчётность. Персональная ответственность руководителей — через дисквалификацию, запрет на регистрацию новых фирм и обязательное обучение — усилит эффект сдерживания и повысит культуру соблюдения закона.
Все значимые ограничения должны утверждаться судом, чтобы избежать произвола, а решения — подлежать обжалованию. Публичные реестры дисквалифицированных лиц и компаний с низким рейтингом обеспечат прозрачность и рыночное давление. Уголовная ответственность при этом не отменяется, а становится резервной мерой — для случаев злостного, мошеннического или особо крупного уклонения, причиняющего существенный вред государству. Её применение должно быть обоснованным, после исчерпания административных инструментов и при наличии доказанного умысла.
Такой подход не ослабляет, а усиливает систему ответственности: он делает её более предсказуемой, адресной и эффективной. Административное право, в отличие от уголовного, способно быстрее реагировать на нарушения, гибко настраивать санкции и формировать устойчивую культуру соблюдения налогового законодательства — без разрушительных последствий для экономики и предпринимательской инициативы.
В научной литературе по этому вопросу наблюдается поляризация мнений. Цуканов А.М., например, рассматривает либерализацию как социально-экономически оправданный шаг, направленный на создание благоприятного делового климата и отказ от «избыточного уголовного воздействия» в экономике [4, с. 131]. Действительно, за последние десятилетия произошла постепенная замена уголовной ответственности административной, широкое распространение условных сроков, сокращение сроков давности и пересмотр механизма расчёта неустоек — всё это говорит о системном тренде. Однако противоположную позицию занимает Тимохина К.А., которая подчёркивает, что налоговые поступления — основа ресурсного обеспечения государства, и ослабление ответственности за их уклонение напрямую подрывает фискальную устойчивость и долгосрочную экономическую безопасность [3, с. 12]. Её аргумент звучит особенно весомо в условиях, когда государство одновременно увеличивает налоговую нагрузку на бизнес (повышение НДС, введение новых сборов, ужесточение контроля), но при этом снижает санкции за её неисполнение. Такая политика внутренне противоречива: она создаёт иллюзию жёсткости при фактической мягкости, что неизбежно стимулирует уклонение.
Таким образом, вектор либерализации уголовной ответственности за налоговые преступления требует переосмысления. Декриминализация и смягчение санкций сами по себе не являются негативным явлением — но они должны быть обоснованы не политической конъюнктурой, а реальной необходимостью, подтверждённой статистикой и юридической логикой. В данном случае такая необходимость неочевидна: уголовное преследование и так почти не применяется, а нововведения лишь легализуют возможность «откупиться», ослабляя правовые стимулы к добросовестному поведению. Гораздо более продуктивным представляется путь не смягчения, а дифференциации и балансировки — когда за уплату задолженности можно избежать судимости, но не избежать других, менее жёстких, но более системных последствий: административных, хозяйственных, репутационных.
Список литературы:
- Гулькова Е.Л. Трансформация регулирования ответственности за налоговые правонарушения в Российской Федерации // Вестник ГУУ. 2019. №8. С.130-138.
- Милова П.С. Некоторые тенденции правового регулирования налоговой ответственности // Скиф. 2023. №6 (82). С.100-122.
- Тимохина К.А. Либерализация уголовного законодательства в сфере налоговых преступлений // Наука и образование сегодня. 2021. №1 (60). С.10-21.
- Цуканов А.Н. Либерализация уголовного закона в сфере налоговых правоотношений // ЮП. 2020. №4 (95). С.130-142.
- Судебная статистика РФ // URL: https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17
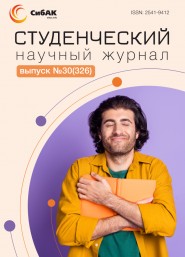

Оставить комментарий