Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 30(326)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУБОРДИНАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
АННОТАЦИЯ
Относительно новым институтом в российском правопорядке является институт субординации требований кредиторов, который применяется в целях понижения в очередности при банкротстве должника требований, контролирующих и афилированных должника лиц, с целью защиты независимых кредиторов. Однако, отсутствие законодательного регулирования, неопредленность правоприменителя в правовой модели субординации порождает противоречивую судебную практику. Автором приведен анализ основных проблем регулирования института субординации и предложены варианты их решения.
Ключевые слова: субординация требований, кредитор, контролирующее лицо, аффилированное лицо, должник.
Создавая юридическое лицо, его основатели передают часть своих активов в распоряжение новой организации, тем самым обособляя их от личной собственности. Если это финансирование осуществляется посредством внесения имущества в уставный капитал (внутреннее финансирование), то между учредителем и компанией формируются корпоративные взаимоотношения.
При этом учредитель приобретает право руководить деятельностью юридического лица и, как следствие, претендовать на получение прибыли, которая представляет собой своего рода компенсацию за предпринимательские риски. Однако при банкротстве такой учредитель имеет право лишь на долю в ликвидационной массе, при условии, что после расчетов с кредиторами что-то останется [14, с. 171].
Ввиду долгого и бюрократизированного процесса внесения имущества в уставный капитал, а также практически невозможного его возврата, учредители часто прибегают к внешнему финансированию для решения проблемы недостатка капитала. Это достигается путем предоставления денежных средств на основании гражданско-правовых договоров, таких как займы. Фактически, такие займы дают возможность учредителям при наступлении банкротства встать в один ряд с другими кредиторами.
В реальности, подобный способ финансирования, несмотря на свою привлекательность, легко превращается в средство для манипуляций со стороны руководства компании-должника. Они переносят бремя недостаточной капитализации, предпринимательских рисков и угрозы несостоятельности на плечи независимых кредиторов. Возникает проблема «управляемого банкротства», а также вопрос справедливого распределения активов между кредиторами с соблюдением принципа равенства. Это привело к созданию механизма субординации требований, цель которого – уменьшить приоритет требований, предъявляемых лицами, контролирующими должника.
Поскольку процесс банкротства регламентируется законодательством о несостоятельности, а порядок удовлетворения требований установлен законом и не может быть изменен по желанию кредиторов, механизм добровольной субординации, предусмотренный ст. 309.1 ГК РФ (субординационное соглашение), не действует в делах о банкротстве. Это подтверждается абз. 2 п. 4 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 54 от 22 ноября 2016 г., касающегося общих положений Гражданского кодекса РФ об обязательствах и их исполнении [4].
Для гарантии соблюдения интересов независимых кредиторов должника судебной практикой был разработан механизм принудительной субординации кредиторской задолженности.
В настоящее время, приоритетность требований кредиторов применяется определенно лишь к акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью, где существует корпоративная взаимосвязь между сторонами. Однако, в теории возникает дискуссия о применимости принципа субординации в процедурах банкротства хозяйственных товариществ или физических лиц [7, с. 49].
Судебные органы не имеют единого мнения относительно возможности субординирования требований участников товарищества. В деле «Крован», Верховный Суд Российской Федерации четко обозначил, что при банкротстве застройщика требования участника (заказчика), относящиеся к совместной деятельности в товариществе, не должны иметь приоритет перед требованиями сторонних кредиторов (граждан), и поэтому подлежат субординации [6].
Данное обстоятельство объясняется общностью интересов участников товарищества в ведении дел и их тесной финансовой взаимозависимостью, которая, в частности, проявляется в совместной ответственности компаньонов.
Касательно несостоятельности гражданина, Обзор и существующая судебная практика не допускают возможности понижения очередности требований кредиторов [5].
Тем не менее, в научной среде данный вопрос остается предметом споров. Главные аргументы против применения инструмента субординации требований кредиторов в процессе банкротства должника сводятся к тому, что у него нет контролирующих субъектов и, как следствие, никаких обязательств с их стороны по инициированию процедуры банкротства; к предположению о безвозмездном характере отношений между членами семьи. Однако, физлица могут быть частью группы лиц, следовательно, у такого лица могут быть контролирующие субъекты, оказывающие влияние на его решения [8, с. 149].
Другая сложность заключается в определении того, чьи именно требования должны быть понижены в очередности.
В российской юридической практике исторически существовала практика изменения квалификации кредиторских требований, схожая с концепцией мнимых сделок. Если судебный орган определял, что займ был предоставлен:
- на невыгодных условиях (к примеру, период возврата средств не установлен, средства направлены на покупку активов, а не текущие нужды);
- когда должник был неплатежеспособен;
- с намерением заполучить руководящую позицию, суд изменял правовую природу обязательств на корпоративные, рассматривая их как вклад в капитал компании.
Сейчас в российском законодательстве действует принцип субординации требований лиц, контролирующих должника или связанных с ним, при наступлении финансовой несостоятельности, что указывает на частичное использование австрийского подхода. Однако, согласно пункту 2 Обзора, само по себе наличие аффилированности или контроля не является достаточным основанием для снижения приоритетности требования кредитора [13, с. 188].
Как верно подчеркивает П. С. Кичева, определение контролирующего лица, содержащееся в ст. 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», требует узкой интерпретации. Для целей субординации, контролирующим лицом следует считать не просто лицо, отдающее обязательные распоряжения (подобными полномочиями может обладать и главный бухгалтер), а именно выгодоприобретателя или иное лицо, обладающее опосредованным интересом в капитале должника [11, с. 25].
В этой связи, в юридической науке возникают вопросы относительно необходимости субординирования требований директора должника. Неприменение субординации к таким требованиям открывает широкие возможности для злоупотреблений правом со стороны учредителей общества посредством оформления займов через директора [12, с. 55].
Если финансирование от связанной стороны было предоставлено по указанию контролирующего лица, требование такой стороны также будет считаться подчиненным. Этот пункт Обзора представляется логичным и призван предотвратить злоупотребления со стороны лица, осуществляющего контроль.
Однако возникает сложность, когда формально лицо не является аффилированным, но фактически находится под контролем. Согласно буквальному толкованию данного пункта, такое требование не будет подчинено, что представляется ошибочным. В подобном сценарии у контролирующего лица появляется больше возможностей для уклонения от субординации требований.
Эксперты в данной области справедливо подчеркивают, что решением этой проблемы является закрепление правила о подчинении требований лиц, находящихся под общим контролем с должником [10, с. 80].
До принятия Обзора существенной проблемой являлась возможность учета требований контролирующего лица, возникших из-за передачи прав требования от стороннего кредитора. Такая передача могла быть обусловлена суброгацией в связи с предоставлением обеспечения, приобретением требования или исполнением обязательств должника контролирующим лицом. Согласно пункту 6 Обзора, подобные требования подлежат субординации, если переход прав произошел в период имущественного кризиса.
В целом, наличие имущественного кризиса, то есть сложного экономического положения, является ключевым фактором для определения субординации требований кредиторов в российском праве. Требования контролирующих или аффилированных лиц будут понижены в приоритете именно при наличии такого кризиса. Однако, момент наступления имущественного кризиса вызывает дискуссии. Верховный Суд РФ в пункте 3.1 Обзора установил, что моментом наступления имущественного кризиса следует считать возникновение обстоятельств, обязывающих руководителя подать заявление о банкротстве должника. Перечень этих обстоятельств не является исчерпывающим, но Обзор ссылается на пункт 1 статьи 9 Закона о банкротстве, включающий: неплатежеспособность или недостаточность имущества должника, признаки угрозы неплатежеспособности, и решение уполномоченного органа о подаче заявления о банкротстве [5].
Те же самые обстоятельства, скажем, долговые обязательства с процентными выплатами, в зависимости от изменений внешних условий, способны как уменьшить рентабельность компании, что не всегда указывает на финансовые трудности, так и поставить под сомнение дальнейшее функционирование предприятия.
К тому же, зачастую сложно точно определить момент начала кризиса имущественного характера, ибо само кризисное состояние представляет собой продолжительный период, который, возможно, не будет явно виден в финансовых отчётах компании и не связан с какими-либо внешними событиями.
Тем не менее, становится понятно, что верное определение момента наступления имущественного кризиса является важным условием, определяющим возможность установления очерёдности удовлетворения требований внутреннего кредитора [9, с. 56].
Еще одна трудность, обусловленная кризисным состоянием активов, заключается в вероятном игнорировании принципа очередности в отношении «поддерживающих ссуд», выдаваемых внутренним заимодавцем для стабилизации финансового положения должника в критических ситуациях. Данная проблема неразрывно связана с вопросом подчинения требований кредиторов, когда они отказываются от действий по взысканию долга.
Согласно пункту 3.2 Обзора, предоставление займа не в период финансовой нестабильности и его последующее «невостребование» по окончании срока из-за текущего или прогнозируемого имущественного кризиса, по сути, является инвестицией, что противоречит австрийской концепции. Фактически, лицо, осуществляющее контроль, сталкивается с дилеммой: либо своевременно потребовать возврата долга, тем самым ускоряя банкротство должника и защищая свои активы, либо попытаться сохранить бизнес, но при этом нести риски, связанные с изменением очередности удовлетворения требований [5].
Если предоставление займа преследовало цель распределения рисков, что подтверждается, например, незначительным размером уставного капитала, то подобное требование, вне зависимости от времени возникновения финансового кризиса, будет подчинено другим, что концептуально соответствует принципу строгой очередности удовлетворения требований кредиторов.
На наш взгляд, уклонение от взыскания долга или предоставление участником компании займа для поддержания бизнеса в критической ситуации не должно приводить к субординации требования, так как в противном случае существенно возрастает вероятность увеличения числа банкротств и снижается мотивация внутренних кредиторов к оздоровлению должника. По мнению Д. К. Поповой, в подобной ситуации участник сталкивается с дилеммой: вернуть себе бизнес и немедленно зафиксировать убытки, либо инвестировать дополнительные средства, рискуя увеличить свои потери в случае неудачи [14, с. 172].
Ключевыми факторами, позволяющими отклонить приоритет подобного требования, должны быть доказательства тщетности предоставленного финансирования и наличие рациональных и оправданных надежд на восстановление бизнеса. Другими словами, сам факт финансового неблагополучия указывает на сомнительность заключенной сделки, вследствие чего на контролирующее лицо ложится повышенная ответственность за безупречное подтверждение добросовестности (исключающее любые обоснованные сомнения) при финансовой поддержке испытывающего трудности должника.
Учитывая повышенную вероятность подделки документации, подтверждающей правомерность сделки, контролирующее лицо обязано предоставить полную информацию о движении денежных средств и доказать, что предоставление займа имело экономический смысл и отвечало бизнес-целям должника. В случае, если, опираясь на данные критерии, суд придет к выводу, что неплатежеспособность возникла задолго до наступления указанных исключительных обстоятельств, и учредитель, предоставляя заем, лишь имитирует попытку спасения предприятия, такое требование подлежит субординации.
Система подчиненности, изначально встроенная в российское правовое поле, со временем претерпела существенную трансформацию. Отказ от практики изменения квалификации требований кредиторов демонстрирует эволюцию судебного подхода к анализу взаимосвязей между должником и лицами, оказывающими на него влияние. В то же время, нечеткость определения понятия «контролирующее лицо» и трудности в установлении момента наступления финансового кризиса указывают на необходимость более углубленного теоретического осмысления этой проблемы [10, с. 80].
Привязка правил субординации требований в российском праве к какой-либо конкретной модели не должна быть самоцелью. Комбинирование различных моделей подчеркивает уникальность её практического применения. Более того, принимая во внимание возможность корректировки социально-экономической политики, отсутствие строгой приверженности к одной модели делает эту систему гибким инструментом воздействия на контролирующих лиц в процессе банкротства.
На наш взгляд, опираясь на сложившуюся судебную практику и учитывая теоретические разработки, законодателю следует внести изменения в закон о банкротстве для законодательного закрепления института субординации требований кредиторов.
Список литературы:
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями от 31 июля 2025 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изменениями от 1 апреля 2025 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.
- О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с изменениями от 31 июля 2025 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.
- О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 // БВС РФ. – 2017. – № 1.
- Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020 // БВС РФ. – 2020. – № 7.
- Определением Верховного Суда РФ от 05.05.2022 № 106-ПЭК22(1) по делу N А63-4453/2019 [электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
- Абдуллаев, Р. И. Проблемы правового регулирования механизма субординации требований кредиторов в банкротстве / Р. И. Абдуллаев // Студенческий вестник. – 2025. – № 13-2(346). – С. 48-50.
- Андриевская, А. Н. Субординация требований аффилированных кредиторов в делах о банкротстве юридических лиц / А. Н. Андриевская, Д. А. Косторнов // Юридическая наука. – 2024. – № 5. – С. 148-150.
- Горбачева, Е. В. Субординация требований как механизм защиты прав независимых кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства) / Е. В. Горбачева // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России. – 2023. – № 4(31). – С. 55-60.
- Караваев, И. В. Институт субординации требований кредиторов и юридическая герменевтика как метод банкротного права / И. В. Караваев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2025. – № 1(60). – С. 79-88.
- Кичева, П. С. Правовые проблемы субординации требований кредиторов в банкротстве / П. С. Кичева // Академия права. – 2024. – № 3(6). – С. 24-32.
- Коновалов, Р. Р. Субординация требований кредиторов в деле о банкротстве / Р. Р. Коновалов // Судья. – 2023. – № 7(149). – С. 54-58.
- Немая, С. Ю. Институт субординации требований в российском гражданском праве / С. Ю. Немая // Евразийский юридический журнал. – 2024. – № 3(190). – С. 187-188.
- Попова, Д. К. Реформирование института субординации требований кредиторов при банкротстве юридического лица / Д. К. Попова // Юридическая наука. – 2024. – № 7. – С. 171-174.
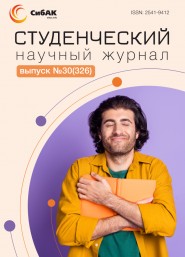

Оставить комментарий