Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 26(322)
Рубрика журнала: Филология
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3
ПАМЯТЬ ТЕЛА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В ПРОЗЕ ХАРУКИ МУРАКАМИ
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется телесность как феноменологический феномен памяти и идентичности в прозе Харуки Мураками. На материале романов «Норвежский лес», «К югу от границы, на запад от солнца» и эссе «О чём я говорю, когда говорю о беге» показано, что телесные переживания у писателя выступают не только мотивами повествования, но и особой формой хранения и актуализации травматического и биографического опыта героев. Опираясь на феноменологию тела М. Мерло-Понти и японские эстетические концепты (моно-но аварэ, ваби-саби), автор приходит к выводу, что телесность у Мураками функционирует как медиум памяти и условие поддержания идентичности в условиях её постоянной угрозы распада.
Ключевые слова: Мураками, тело, память, феноменология, переживания.
Телесность в последние десятилетия становится предметом углубленного исследования в гуманитарных науках. Современная философия и культурология рассматривают тело не только в его физиологическом и эротическом измерении, но как базовую категорию существования человека, формирующую опыт, идентичность и память. Феноменологическая традиция, представленная прежде всего трудами М. Мерло-Понти (1908-1961), утверждает принципиальную несводимость телесности к объекту наблюдения или инструменту сознания, подчеркивая ее автономную роль в структуре переживания и познания мира. В то же время в японской философской и эстетической мысли, существенно отличающейся от западной дуалистической модели «тело-дух», телесность традиционно осмысляется как органическая часть целостного бытия, что находит отражение в таких категориях, как моно-но аварэ и ваби-саби. В литературе Харуки Мураками, одного из наиболее влиятельных и широко читаемых современных японских писателей, телесность занимает значимое место, однако остается недостаточно исследованной в академическом дискурсе. Анализ текстов Мураками показывает, что телесные ощущения героев, такие как голод, усталость, боль, сексуальное влечение, не выполняют исключительно декоративной или реалистической функции. Напротив, эти телесные состояния приобретают статус особого феноменологического измерения, в котором происходит сохранения и актуализация личной памяти, включая память о травматическом опыте. Таким образом, тело в произведениях Мураками выступает как своего рода хранилище индивидуальной истории, нередко более надежное, чем сознательная память, подверженная вытеснению и фрагментации. Цель исследования – выявить и интерпретировать роль телесности как феномена памяти и идентичности в романах Харуки Мураками («Норвежский лес», «К югу от границы, на запад от солнца», «О чем я говорю, когда говорю о беге»). Телесные переживания в этих текстах формируют устойчивость субъективного опыта героев, противостоящего угрозе внутреннего распада.
Феноменология тела занимает особое место в европейской философской традиции XX века, противопоставляя себя как картезианскому дуализму res cogitans и res extensa, так и редукционистским биологическим моделям. Центральным в данном контекста является подход М. Мерло-Понти, для которого телесность предстает не пассивной оболочкой сознания, а исходной формой бытия в мире, через которую осуществляется всякое восприятие и конституируется субъективность. В его работе «Феноменология восприятия» (1945) утверждается, что тело не является чем-то, чем человек обладает, но тем, чем он существует, будучи субъектом восприятия: «Я рассматриваю мое тело, которое является моей точкой зрения на мир, как один из объектов этого мира. Я вытесняю осознание того, что мой взгляд служил мне средством познания, и принимаю мои глаза в качестве частичек материи. С этого момента они обретают свое место в том же объективном пространстве, где я пытаюсь разместить внешний объект, и мне кажется, что я порождаю воспринимаемую перспективу через проекцию объектов на мою сетчатку» [3, с. 105]. М. Мерло-Понти развивает феноменологию Гуссерля, но в отличие от последнего делает акцент на теле не как объекте интенциональных актов, а как на живом теле (Leib), пребывающем в теснейшей связи с окружающим миром. Он подразумевает, что человеческое существование всегда укоренено в телесной локальности и ситуации. Тело у него оказывается не просто посредником между «Я» и внешним миром, но одновременно и условием, и границей всякого опыта. Это тело не совпадает с телом анатомическим, напротив, речь идет о теле, которое «помнит» и «знает» без необходимости вербализации. Особенно значимой для анализа художественных текстов становится категория телесной памяти у Мерло-Понти: «Предыдущие позы и движения в любой момент предоставляют нам некий законченный эталон. И дело не в «запоминании» (зрительном или моторном) исходной позиции руки: мозговые поражения могут оставить невредимой зрительную память, полностью уничтожив осознание движения. Что же касается «моторной памяти», ясно, что она не могла бы предопределить нынешнюю позицию моей руки, не будь в самом восприятии, лежащем в истоке воспоминания, абсолютного осознания «здесь», без которого мы блуждали бы от воспоминания к воспоминанию, но так и не получили бы актуального восприятия. Будучи по необходимости «здесь», тело также существует именно «сейчас»; оно ни в коем случае не может стать «прошлым», и если, выздоровев, мы не можем сохранить живое воспоминание о болезни, или, повзрослев, воспоминание о нашем теле в детстве, эти «пробелы в памяти» лишь выявляют временную структуру нашего тела» [3, с. 188]. Он утверждает, что память часто фиксируется в теле на уровне привычек, жестов и движений, минуя рефлексивное сознание. Так тело оказывается своеобразным архивом прошлого опыта, даже если сам субъект утраивает доступ к этим воспоминаниям в когнитивном плане. Этот аспект феноменологии телесности становится продуктивным инструментом для исследования литературы, в которой телесные переживания выступают маркерами скрытой или вытесненной памяти, в том числе травматической. В связи с этим показательно и более широкое феноменологическое понимание времени, восходящее к Гуссерлю: память у него – не только сознательная репродукция, но и перманентное накладывание прошлого на настоящее через телесно-временные структуры. Это позволяет рассматривать телесность, как особую форму времени, где опыт прошлого сохраняется в самом способе быть в мире здесь и сейчас. Таким образом, феноменология тела дает возможность интерпретировать телесность не только как мотив нарратива, но и как глубинную онтологическую категорию, через которую формируются память и идентичность персонажей. Этот подход представляется особенно актуальным для анализа прозы Харуки Мураками, где тело героев не столько описывается в физиологических деталях, сколько функционирует как носитель индивидуальной истории и как пространство, в котором накапливаются следы утрат, желаний и пережитых травм.
Наряду с феноменологической традицией, важным методологическим основанием для анализа телесности в произведениях Харуки Мураками является японская культурно-философская оптика. В отличие от западной метафизики, исторически склонной к дуалистическому противопоставлению тела и сознания или духа, японская традиция характеризуется принципиальной недуальностью этих начал, что находит отражение как в философских школах, так и в эстетических категориях. Особое значение имеет здесь эстетическая концепция моно-но аварэ, восходящая к классической литературе периода Хэйан (XI–XII вв.) и закреплённая в сочинениях Мотоори Норинаги в XVIII в. Этот термин, часто переводимый как «печальное очарование вещей», фиксирует эмоциональную восприимчивость к эфемерности, уязвимости и конечности явлений. Подобная чувствительность к преходящему распространяется и на телесность: тело осмысляется как временное, но при этом глубоко ценное и уникальное выражение бытия. Таким образом, японская культура предлагает особый взгляд на телесность не как на источник несовершенства, противопоставленный «чистому духу», но как на естественное пространство проживания скоротечности и сопричастности миру. Близкой по значению является эстетика ваби-саби, формировавшаяся в контексте дзэн-буддизма. Она утверждает красоту несовершенного, незавершённого и непостоянного, предполагая принятие телесной изменчивости, старения и даже болезненности как неотъемлемых характеристик существования. Такая установка способствует восприятию тела не только в его функциональном или эротическом измерении, но и как носителя следов времени и истории субъекта. Кроме того, на восприятие телесности в японской культуре существенно влияет буддийское учение о анатмане (отсутствии постоянного «я»), которое нивелирует идею устойчивой субстанциальной идентичности. В этой системе координат тело становится важнейшей ареной опыта преходящего и взаимозависимого бытия, где нет фиксированного центра, но есть процессуальность и множественные взаимосвязи. Эти культурные и философские установки находят выражение в художественной литературе, в том числе в современной прозе. У Харуки Мураками телесность вписывается в данную традицию: она оказывается не оппозиционной сознанию, а конституирующей личность наравне с памятью и эмоциональными состояниями. Телесные ощущения героев у него, будь то усталость, физическая близость, боль или бег, всегда несут экзистенциальную нагрузку и выступают важнейшими ориентирами их индивидуального бытийственного опыта. Таким образом, обращение к японской эстетике и философии позволяет глубже понять, почему телесность у Мураками не нуждается в оправдании через психофизические или моралистические конструкции. Она выступает самоценным феноменом, через который персонажи проживают свою хрупкую и подверженную распаду идентичность.
Роман Харуки Мураками «Норвежский лес» (1987) представляет собой наиболее показательный пример того, как телесность функционирует в его прозе как самостоятельный феномен, сопряжённый с процессами памяти и конституирования идентичности. Структура повествования строится вокруг травматического опыта утрат, переживаемого главным героем Ватанабэ, для которого телесные ощущения становятся своеобразным хранилищем воспоминаний, даже тогда, когда сознание стремится вытеснить болезненные образы прошлого. Особенно значимой в этом контексте является телесная память, проявляющаяся через повторяющиеся физические состояния героя. Характерны эпизоды, где Ватанабэ описывает головные боли, усталость, болезненную напряжённость: «Я был весь мокрый от пота, поэтому достал из рюкзака полотенце и вытер лицо, переодел рубашку» [5, с.138], «Меня окутывал сон и уволакивал тело в теплую грязь» [5, с.169], «Чтобы голова не раскололась на части, я нагнулся, прикрыл лицо ладонями и замер. Вскоре подошла немецкая стюардесса, спросила по- английски: – Вам плохо? – Нет-нет, просто голова немного закружилась, – ответил я» [5, с. 9], «У меня разболелась голова» [5, с. 21], «И в этой комнате я спал глубоким сном, как бы выжимая из всех своих клеток усталость до последней капли» [5, с. 110]. Эти телесные сигналы, на первый взгляд лишённые нарративной функции, в действительности выступают симптомами травматической памяти. Они указывают на неразрывную связь тела и психики, демонстрируя, что прошлое продолжает существовать не только в виде воспоминаний, но и фиксируется на уровне телесных ощущений. Не менее важен в романе мотив сексуальной близости, который у Мураками последовательно лишён идеализирующей или исключительно эротической функции. Интимность между Ватанабэ и Наоко, а затем между Ватанабэ и Мидори, рассматривается не столько как удовлетворение физического влечения, сколько как попытка через телесный контакт обрести ускользающую целостность. Телесность здесь выступает механизмом соприкосновения с травматической памятью: в моменты близости обостряется воспоминание о потере Кидзуки, о несостоявшейся жизни, которая могла бы быть иной. Телесность становится не просто средством коммуникации, но и способом восстановления связей с прошлым, пусть даже болезненных. Кроме того, в «Норвежском лесу» показательно, что телесность постоянно соотнесена с конечностью и тленностью. Болезнь и смерть Наоко лишают телесность иллюзии устойчивости: тело оказывается предельно уязвимым, и именно через это осознание персонажи сталкиваются с собственной конечностью. Для Ватанабэ физические контакты и ощущение чужого тепла становятся единственным способом сохранить личностную непрерывность и хоть какую-то стабильность в ситуации, когда идентичность угрожает распасться под натиском горя и пустоты. Таким образом, телесность в «Норвежском лесу» функционирует как особая феноменологическая форма памяти, удерживающая прошлое не на уровне рациональных воспоминаний, но в самой структуре бытийственного опыта героя. Через телесные ощущения Мураками демонстрирует процесс непрерывной работы памяти, противостоящей забвению и поддерживающей идентичность даже в условиях её постоянной угрозы распада.
В романе Харуки Мураками «К югу от границы, на запад от солнца» (1992) телесность выступает главным медиатором возвращения вытесненного прошлого и своеобразным катализатором ретравматизации субъективного опыта. На первый взгляд повествование сосредоточено на внутреннем кризисе зрелого человека, однако анализ показывает, что решающее значение для конституирования идентичности главного героя, Хадзимэ, имеет именно телесный пласт переживания. Встреча Хадзимэ с Симамото запускает процесс возвращения давно подавленных аффектов и воспоминаний, которые не могли быть активированы исключительно когнитивным усилием. Эта реактивация памяти происходит преимущественно через телесные ощущения: герою свойственно фиксировать учащённое сердцебиение, дрожь, изменение температуры тела в непосредственной близости к Симамото: «При виде нее у меня буквально пробегала дрожь по телу» [4, с. 33], «Ее сестру я совсем не знал, чувств серьезных у меня к ней не было, и тем не менее она вызывала во мне дрожь – как магнитом притягивала» [4, с. 35], «Ее влажные пальцы мелко дрожали» [4, с. 32], «Я чувствовал дыхание девушки на своей шее. Сердце так колотилось в груди, что готово было выскочить» [4, с. 20], «Столько лет прошло, а сердце все равно учащенно билось при одной только мысли о ней. Такое лихорадочное возбуждение, будто где-то в груди открывалась потайная дверца» [4, с. 41]. Такие физические проявления указывают на то, что тело «помнит» и воспроизводит когда-то пережитые эмоции, даже если сознание до этого старательно скрывало их в глубинных слоях психики. Показательно также, что телесная близость героев неизменно сопряжена с ускользанием, временной и эмоциональной неустойчивостью. Контакт тел становится одновременно подтверждением существования общего прошлого и напоминанием о его необратимой утрате. Мураками демонстрирует, что в таких ситуациях тело оказывается более надёжным архивом памяти, чем сознание, поскольку оно хранит пережитые состояния в своих реакциях, позволяя прошлому возвращаться без рациональной артикуляции. Эта особенность проявляется и в том, как Хадзимэ оценивает свою жизнь: несмотря на социальный и материальный успех, он ощущает экзистенциальную незавершённость, которая становится очевидной лишь при телесном соприкосновении с Симамото. Таким образом, телесность у Мураками выступает не только как элемент интимной сферы, но, прежде всего, как механизм актуализации памяти, позволяющий герою вновь обрести контакт с вытесненными пластами собственной идентичности, пусть даже ценой повторного столкновения с утратой и внутренней нестабильностью. Телесность в данном романе становится, таким образом, инструментом не просто воспоминания, но и повторного проживания забытого опыта. Через телесную память Мураками вскрывает внутренние конфликты персонажей, показывая, что целостность их идентичности во многом иллюзорна и всегда подвержена распаду, как только тело снова начинает «говорить» о том, что сознание предпочло бы оставить в прошлом.
В автобиографическом эссе Харуки Мураками «О чём я говорю, когда говорю о беге» (2007) телесность впервые в рамках выбранного анализа предстает как сознательно культивируемая практика, направленная на поддержание личностной целостности и упорядочивание индивидуальной памяти. В отличие от художественных романов писателя, где тело часто функционирует как непроизвольный носитель травматического опыта, здесь телесность становится результатом целенаправленных действий и осознанных ритуалов. Мураками подробно описывает свои занятия бегом, придавая им значение, выходящее далеко за пределы физического самосовершенствования. Бег у него – не просто поддержание физиологического здоровья, а особая форма самопознания и даже способ разговоров с собой: «Именно поэтому мне совершенно необходимы эти час-полтора ежедневного бега: я могу помолчать и побыть наедине с самим собой – то есть соблюсти одно из важнейших правил психической гигиены. Когда бежишь, можно ни с кем не разговаривать и никого не слушать. Единственная обязанность – смотреть по сторонам на движущийся пейзаж. Эти полтора часа – самая важная часть моего дня» [6, с. 21]. Автор прямо утверждает, что именно регулярная физическая нагрузка создает ощущение структурированного времени и одновременно служит способом архивирования собственной жизни. Телесная память в данном случае проявляется в повторяющихся движениях и в привычках, которые фиксируют ход времени и связывают разные периоды биографии в единую непрерывную линию. Показательно, что Мураками рассматривает бег как форму практической феноменологии тела: внимание направлено не на внешнюю цель (результат в километрах или минутных показателях), а на процесс телесного бытия «здесь и сейчас». Таким образом, тело оказывается не просто объектом усилий, но активным участником формирования субъективного времени, в котором минувшие переживания и состояния непрерывно соотносятся с настоящим. Благодаря этому бег становится у писателя особым способом работы с памятью, где прошлые ощущения вплетаются в актуальный опыт через ритмику дыхания, биение сердца и повторяемость шагов: «Если их (мускулы) не напрягать, они, естественно, расслабляются и, так сказать, «забывают» нагрузку. Чтобы освежить их память, надо проделать весь путь с самого начала» [6, с. 57]. Кроме того, в книге прослеживается своеобразная стратегия сопротивления хаотичности и угрозе внутреннего распада, столь характерным для художественных героев Мураками. Через телесную дисциплину беговой практики автор добивается ощущения устойчивости идентичности, которая поддерживается не столько сознательными усилиями памяти, сколько самой регулярностью физических действий. По сути, тело в этом случае становится гарантом целостности личности, компенсируя те сбои, которые неизбежно возникают в когнитивном и эмоциональном опыте. Таким образом, в «О чём я говорю, когда говорю о беге» телесность приобретает особый статус: она функционирует как инструмент сознательного формирования идентичности и работы с индивидуальной историей, где память оказывается вписанной в ритмы и повторяемые действия живого тела. Это значительно расширяет понимание феноменологического измерения телесности в текстах Мураками, показывая, что тело способно быть не только пассивным носителем памяти, но и активным средством её поддержания и обновления.
Проведённое исследование позволило выявить и систематизировать многоуровневую роль телесности в прозе Харуки Мураками, рассматриваемую в данном контексте как феноменологический феномен, неразрывно связанный с процессами памяти и формирования идентичности. Анализ трёх произведений – романов «Норвежский лес», «К югу от границы, на запад от солнца» и автобиографического эссе «О чём я говорю, когда говорю о беге» – показал, что телесность у Мураками никогда не сводится к иллюстрации физиологических процессов или к простому фону для развития сюжета. В «Норвежском лесу» телесность функционирует, прежде всего, как бессознательная форма хранения травматической памяти: телесные ощущения героя, такие как головные боли, усталость, физическая близость, становятся симптомами глубинных аффектов и способом удержания опыта утраты, минуя сознательные акты воспоминания. В «К югу от границы, на запад от солнца» тело героя выступает медиатором возвращения вытесненного прошлого, где через физические реакции и эмоционально окрашенные телесные контакты актуализируется забытый или подавленный опыт, напрямую влияющий на реконфигурацию идентичности персонажа. Наконец, в «О чём я говорю, когда говорю о беге» телесность предстает в качестве сознательно культивируемой практики, посредством которой автор структурирует субъективное время и поддерживает целостность своей личности через телесную дисциплину и повторяемость движений.
Тем самым телесность у Мураками проявляется как особая форма памяти, превосходящая возможности когнитивного сознания и вербального нарратива. Она выступает гарантом непрерывности идентичности в условиях угрозы её распада, одновременно фиксируя следы прошлого и обеспечивая возможность его проживания в настоящем. Такой подход позволяет по-новому интерпретировать не только тексты самого Мураками, но и расширяет горизонты анализа современной японской литературы, демонстрируя важность телесного измерения в конституировании субъективного опыта.
Список литературы:
- Бондаренко, Г. В. Концепция «анатман» («не-душа») Будды Шакьямуни: философский и психологический анализ // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. — 2014. — № 7. — С. 134–135.
- Джунипер, А. Wabi Sabi: The Japanese Art of Impermanence / Andrew Juniper. — Tuttle Publishing, 2003.
- Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия = Phénoménologie de la perception : 1945 / пер. с франц. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. — СПб. : Наука, 1999. — 608 с.
- Мураками, Х. К югу от границы, на запад от солнца / пер. с яп. С. Логачева. — М. : Издательство «Э», 2016.
- Мураками, Х. Норвежский лес / пер. с яп. А. Замилова. — М. : Издательство «Э», 2017.
- Мураками, Х. О чём я говорю, когда говорю о беге / пер. с англ. А. Кунина. — М. : Издательство «Э», 2016.
- Раевский, А. Е. Корни Японии. От тануки до кабуки : книга. — М. : Издательство АСТ, 2025. — 352 с. — 2000 экз.
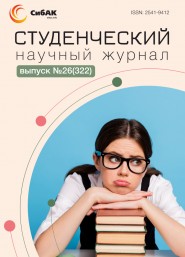

Оставить комментарий