Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 21(317)
Рубрика журнала: Филология
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7, скачать журнал часть 8, скачать журнал часть 9
РОЛЬ ХРОНОТОПА В РАССКАЗЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «БЕЗДНА»
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется символика образа бездны в рассказе Леонида Андреева «Бездна», рассматриваемого как многоуровневый символ внутреннего кризиса личности, глубины человеческой души и тёмного начала. Особое внимание уделяется сцене падения героя в бездну, раскрывающей экзистенциальную драму и нравственную катастрофу персонажа. Исследуется связь бездны с архетипом леса как пространства хаоса и трансформации, а также роль цветовой палитры, времени суток и акустических мотивов в формировании атмосферы произведения. В статье подчеркивается психологическая значимость мотивов темноты, тишины и пустоты, как символов отчуждения и утраты идентичности, формирующих универсальную притчу о границах человеческой психики и морали.
Ключевые слова: бездна, символизм, внутренний кризис, темные силы, тьма, архетип леса, топография, страх, отчуждение, мораль.
Бездна у Андреева — не только топографическое пространство, но и метафора несознаваемых слоёв психики, где сосредоточены самые тёмные силы человеческой природы, те «потёмки души», куда человек боится заглядывать и тем более признать их внутри самого себя [6, с. 157]. В ряде смысловых интонаций рассказа «бездна» становится проекцией внутреннего кризиса героя — ощущение внутреннего «разрыва», когда привычный порядок нарушается, а разум сталкивается с хаосом неосознанного. Андреев передаёт через образ бездны бесконечность, неизбежность и столкновение с собственными «демонами», потёмками души [6, с. 159]. Главный герой не просто сталкивается с ними, но и поддаётся их влиянию, «падая» в неё.
Важнейшей кульминацией рассказа становится сцена «падения в бездну» — сценически насыщенный эпизод, формирующий всю идейно-эмоциональную динамику текста; именно здесь концентрируются мотивы ужаса, обречённости и нравственного падения [5, с. 79]. Герой, перешагивая порог между светом и тьмой, впадает в бездну, и на этом заканчивается рассказ.
Обращаясь к анализу атмосферы, в которую Андреев погружает читателя на протяжении всего текста, необходимо отметить, что падения героя неотделимо связаны с внутренней тьмой, с чувством притяжения глубины, которое не позволяет вернуться к прежнему состоянию; оно как глубокая чернота воды затягивает главного героя в себя [1, с. 231]. Топография обрушивается во внутреннее пространство героя, и бездна становится непроходимой границей между прошлым и настоящим, добром и злом [3, с. 41].
«На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну. И черная бездна поглотила его» [1, с. 240].
Примечательно, что для Андреева бездна тесно связана с архетипом леса — пространства, издревле воспринимаемого как сферу непознанного, опасного и трансцендентного [4, с. 14]. В русле мировой литературной традиции лес часто выступает не только как топографическая деталь, но и как символ пути испытаний и духовной трансформации [4, с. 15]. Аналогичным образом Данте Алигьери в начале «Божественной комедии» вводит мотив «тёмного леса» (la selva oscura) как преддверие к путешествию по аду; у Данте лес — царство заблуждений, внутреннего кризиса и точки отсчёта нравственного преображения [4, с. 17]. У Андреева архетип леса приобретает сходные функции: герой попадает в «пространство хаоса», где прежние ориентиры не действуют, и любой шаг оказывается чреват падением в пропасть [5, с. 80]. Эта топография беспредельной глубины и неопределённости служит отправной точкой для встречи с собственной тенью. Даже перемещения главных героев в глубину леса играют свою идейно-смысловую функцию.
Уже в самом начале рассказа Андреев виртуозно прокладывает дорогу к основной теме — теме бездны — с помощью системы тонких художественных намёков, выстроенных через описание цветов, времени суток и окружающего пространства [3, с. 44]. Здесь цвет становится не просто эстетическим приёмом, но и полноценной категорией смыслообразования — повторяются красный, багровый и золотой цвета. Красный — цвет опасности, крови, несчастья; в самом начале рассказа Андреев вызывает у читателя тревогу и дискомфорт, намекая на ужасное развитие дальнейших событий [1, с. 227]. Героев постоянно окружают тени, момент времени суток — сумерки, ночь или раннее утро — также выбраны неспроста, они ассоциируются с неопределённостью и ожиданием [3, с. 47].
Этот комплекс художественных средств действует на уровне подсознания, с первых абзацев настраивая читателя на погружение во «тьму», в бездну [5, с. 81]. Особую роль в формировании атмосферы и символики рассказа играют мотивы темноты; они реализованы через описание погоды и игры света и тени [1, с. 229]. Уже в самом начале появляется громада тёмных туч, наступающих на героев: «Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ...»; одинокое светлое облачко олицетворяет главных героев и их окружённость тьмой [1, с. 230].
Бездна здесь — это первобытное, животное начало в каждом человеке, страшные «потёмки души», которые каждый боится в себе открывать [6, с. 160]. Оно проявляется уже в начале, когда в Немовецком просыпаются странные мысли о Зиночке: «И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении...» [1, с. 225]. Дальше эта бездна проявляется в женщинах и мужчинах, которых молодые встречают на пути; они находятся на краю бездны, максимально приближены к ней, а у Немовецкого при их виде просыпается чувство родства, что говорит о неслучайности его морального выбора [5, с. 82].
Список литературы:
- Андреев Л. Н. Бездна // Андреев Л. Н. Собрание сочинений: в 8 т. — М.: Правда, 1990. — Т. 4. — С. 224–242.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Русский язык, 1992. — 944 с.
- Белый А. Символизм как миропонимание // Вестник литературы. — 1909. — № 2. — С. 31–56.
- Данте А. Божественная комедия. Ад / Пер. М. Лозинского. — М.: Наука, 1994. — 382 с.
- Томахина В. П. Мистические мотивы в творчестве Леонида Андреева // Филологические науки. — 2012. — №2. — С. 77–82.
- Гомон А. М. Инфернальный дискурс прозы Леонида Андреева // Вопросы литературы. — 2019. — № 3. — С. 155–162.
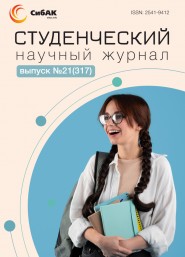

Оставить комментарий