Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 22(276)
Рубрика журнала: Искусствоведение
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИК КАК ОСНОВА ДРАМАТУРГИИ РУССКОЙ ОПЕРЫ
PSYCHOLOGICAL CONFLICT AS THE BASIS FOR THE DRAMATURGY OF RUSSIAN OPERA
Tatiana Lipko
master's student, Lugansk State Academy culture and arts. M. Matusovsky,
Russia Lugansk
Dmitry Pshekhachev
scientific supervisor, lecturer, Lugansk State Academy culture and arts. M. Matusovsky,
Russia Lugansk
АННОТАЦИЯ
Психологический конфликт играет важную роль в драматургии русской оперы, отражая сложные внутренние состояния и эмоциональные переживания персонажей. В этой работе будет рассмотрено, как психологические конфликты формируются и развиваются на сцене, оказывая влияние на характеры и действия персонажей. Будут приняты во внимание известные оперные композиторы, в операх которых психологический конфликт играет ключевую роль.
ABSTRACT
Psychological conflict plays an important role in the dramaturgy of Russian opera, reflecting the complex internal states and emotional experiences of characters. This paper will examine how psychological conflict forms and develops on stage, influencing the characters and actions of the characters. Consideration will be given to famous opera composers in whose operas psychological conflict plays a key role.
Ключевые слова: трагедия, драма, опера, драматический конфликт.
Keywords: tragedy, drama, opera, dramatic conflict.
Оперы русских композиторов отмечены акцентом на внутренней психологии персонажей, особенно психологии главных действующих лиц. «Борис Годунов», «Хованщина», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» – все представленные в них главные герои претерпевают определенные психологические трансформации на протяжении хода действия оперы. Во многом это увлечение психологией уходит корнями в русскую литературную традицию XIX в. Русские композиторы тяготели к роману и аналогичным сложным литературным произведениям как основе своих опер. Д. Хаас отмечает, что, «в то время как «Евгений Онегин» П. Чайковского считается единственной успешной попыткой русского композитора XIX в., превратить крупный роман в оперу, он был не одинок в привнесение работ романиста в искусство оперной композиции. Русские оперные композиторы использовали романы Л. Толстого и Ф. Достоевского, а также более короткие произведения С. Пушкина и Н. Гоголя в качестве исходного оперного материала. Используя эти романы в качестве источников для своих опер, русские композиторы XIX в. приняли вызов создания целого ряда персонажей, которые также подвергаются процессу психологического роста.
Из-за внимания к внутренней работе человеческой психики некоторые критики и ученые критиковали русскую оперу, основываясь на том, что они считают недостатком отсутствие внешнего (т.е. видимого) конфликта между персонажами на сцене. Однако русские оперы не выводят конфликт наружу так же, как это делают зарубежные оперы. Вместо этого страдание отдельных героев держат внутри без каких-либо действий по разрешению конфликта. Это правда, что русские оперы не всегда фокусируются на тех же типах межличностных отношений, которые можно увидеть в операх Дж. Мейербера, Р. Вагнера, Дж. Верди или Ж. Бизе. Часто русские оперные композиторы не представляют нам таких же бесстрашных героев или трагических героинь, как их западные коллеги. Вместо этого они предлагают зрителям нечто совершенно иное.
По сути, русские композиторы предпочитают писать оперы, основанные на психологических процессах, происходящих с персонажами, когда они вовлечены в повседневные события. Следовательно, в этих работах, по-видимому, мало или вообще нет видимого внешнего конфликта. Поскольку многочисленные пассажи в операх Р. Вагнера могут быть легко истолкованы как драматически (сценически) статичные, важно отличать его подход к драматургии от подхода русских композиторов.
Безусловно, оперы Р. Вагнера также характеризуются интернализацией конфликта; темп психологического развития, однако, отличается. Драматически статичные сцены оперы Р. Вагнера – это обычно те, в которых участвует один персонаж или напротив, в которых один герой «говорит» с другим, который хранит молчание на протяжении всей сцены. В обоих типах отрывков персонажи обычно озабочены выражением одного психологического состояния. В ответ музыкальный стиль остается довольно единообразным на протяжении всего отрывка, оркестровое сопровождение может немного измениться, но в целом в музыке не происходит заметного сдвига. С другой стороны, в психологических драмах Чайковского музыка отражает почти физиологическое качество, ускоряясь и изменяясь по мере того, как герои раскрываются с помощью разнообразных мыслей и эмоций. Тем не менее, тот факт, что Р. Вагнер усиливает свою драму, делает его родственным по духу русским композиторам. Этот тип драматического застоя наблюдается в «Валькирии». В заключительные моменты последнего акта Вотан исполняет два продолжительных сольных пассажа без перерыва; соло растягивается на время продолжительностью около 13 минут, посвященное его чувствам по поводу превращения Брунгильды в смертную и помещения ее на покой в огненное кольцо. На протяжении всего отрывка Вотан прощается со своей дочерью, «разговаривая» с ней непрерывно. В самом конце сцены, Брунгильда погружается в свой волшебный сон, оставляя Вотана одного, физического взаимодействия между ними практически не происходит. Следовательно, музыкальный стиль этих заключительных моментов оперы остается неизменным, даже когда лейтмотивы возникают и снова исчезают в оркестровой ткани.
Как и оперы Р. Вагнера, русские оперы могут быть соответственно статичными в отношении физического действия на сцене. Персонажи русских опер также часто выступают в одиночестве или поют продолжительные сольные пассажи другому молчаливому персонажу, что приводит к незначительному или отсутствующему ощутимому взаимодействию. Однако есть одно существенное различие. В русских операх происходит перенос драматического конфликта из внешнего мира во внутреннюю сферу психики героя. Может показаться, что на сцене мало что происходит, но драматические персонажи испытывают интенсивную психологическую активность. В результате, протяженные пассажи в русской опере, похожие на монолог, предполагают быстрое прохождение через диапазон эмоциональных состояний по мере психологического роста героя. Иногда эти эмоциональные стадии меняются контрастно, переходя от одной эмоции к другой. В других случаях эмоциональные изменения являются прогрессивными, такими, что персонаж переходит от одной эмоции к усиленной версии той же эмоции.
В русской традиции источник внутреннего драматического конфликта варьируется. В некоторых русских операх главный герой и персонажи-антагонисты никогда непосредственно не взаимодействуют на сцене. Так обстоит дело в «Борисе Годунове» М. Мусоргского: ни в один момент по ходу оперы Борис и Григорий («Лжедмитрий») не делят сцену. Фактически, эти двое находятся в одном и том же месте только в последние моменты последнего акта и только после смерти Бориса. Тогда можно задать вопрос: если они никогда не взаимодействуют напрямую, то где же драматический конфликт? Это происходит в сознании Бориса, драма уходит корнями во внутренние муки героя, когда он борется со своей виной за убийство законного наследника трона и с его ужасом из-за слухов о «воскресшем» Дмитрии. По ходу оперы Борис кажется все более сумасшедшим, переходя из одного психологического состояния в другое.
В других операх главный герой и антагонист действительно делят сцену, однако только один персонаж активно делится своими мыслями. Например, в «Евгении Онегине» диалоги между Татьяной и Онегиным довольно односторонни вплоть до финальной сцены оперы. Наиболее примечательной из них является знаменитая «Сцена письма» Татьяны, во время которой она изливает свое признание в любви к Онегину. На протяжении арии Татьяна демонстрирует калейдоскопическую гамму противоречивых эмоций, охватывающих страх, любовь, неуверенность, желание, стыд, надежду и сомнение. Ответа Онегина на письмо не слышно до следующей сцены, в которой он практически читает Татьяне лекцию о том, как он скоро устанет от брака и советует ей лучше контролировать свои эмоции, опустошенная, Татьяна покидает место происшествия без возражений. В результате этих отдельных откровенных обменов мнениями чувство конфликта замаскировано и потенциально может оставить зрителя, незнакомого с особенностями русской оперы, с чувством неудовлетворенности и сбить столку. Это чувство недоумения, в свою очередь, потенциально усиливается постоянным упущением возможностей для традиционного любовного дуэта, что, возможно, является определяющей характеристикой очень многих западных опер.
То же самое справедливо и для оперной адаптации С. Прокофьевым «Войны и Мира». У тех, кто не знаком с романом, может сложиться впечатление, что Л. Толстой намеревался создать яркий рассказ о вторжении Наполеона в Россию, изобилующий страницами, описывающими знаменитые сражения, но это далеко от истины. Хотя в романе есть несколько отрывков, посвященных описанию реальных военных действий, он, прежде всего, является исследованием психологического воздействия войны на небольшую группу семей. В своей оперной адаптации романа С. Прокофьев сохраняет целостность произведения Л. Толстого, делая акцент на психологии драматических героев. В частности, С. Прокофьев фокусируется на психологической трансформации двух главных персонажей: Наташи Ростовой и Пьера Безухова. Ария в стиле Татьяны «Сцена письма» лучше всего представлена в четвертой картине «Война и мир». В ней недавно обрученная Наташа посещает бал в доме Элен Безухова, где она знакомится с Анатолем Курагиным, братом хозяйки вечеринки. Во время их встречи Анатоль вручает Наташе письмо, в котором он признается ей в любви. Прочитав письмо, Наташа испытывает свою собственную череду противоречивых эмоций. Само присутствие этого момента в сюжете предоставило С. Прокофьеву прекрасную возможность отреагировать на П. Чайковского и сочинить свою собственную «сцену письма». Однако Прокофьев использовал само письмо не как средство, с помощью которого Наташа выражает свои внутренние переживания, но скорее как катализатор, который зажигает череду ее противоречивых эмоций. Точно так же, как П. Чайковский сопровождал каждую эмоцию Татьяны соответствующей разной музыкой, так и С. Прокофьев поступил и в отношении Наташи. В начале своей арии Наташа читает письмо, написанное Анатолием Курагиным, в котором он признается ей в любви. Чтение письма Наташей сопровождается темой оркестрового вальса, которая послужила музыкальной основой для сцены до этого момента.
Как свидетельствуют эти примеры, русские композиторы предпочитали изолированное изучение индивидуальной психологии в качестве основного средства развития характера героя. Подходя к своим персонажам не просто через интерактивный диалог, но и с точки зрения внутренней психологии, они смогли представить их более объемно и таким образом, что зрители увидят их такими, какими они действительно помнят их по известным литературным первоисточникам А. Пушкина, Н. Гоголя, Л. Толстого и других писателей. К сожалению, в больших по масштабам операх практически невозможно представить каждого персонажа в полной мере, неизбежно что-то может быть опущено в надежде, что зрители сами предоставят недостающую информацию. Только полагаясь на то, что зрители внесут свою лепту, опираясь на свои знания о произведениях классиков литературы, русские композиторы смогли эффективно применить этот психологический подход к драматическому конфликту.
Список литературы:
- Блок, В. М. Метод творческой работы С. Прокофьева. – М.: Музыка, 1979. – 143 с.
- Верт, А (1901-1969). Избранное [Текст] / А. Верт. – Санкт-Петербург: Центр обслуживания и информации, 2016–. Т. 11: Музыкальный переполох в Москве; Т. 11: Хрущевский этап; Россия в мире: опасения и надежды / [перевод с английского А. Волкова, Е. Нестеровой, А. Жданова]. – 2016. – 692, [2] с.; ISBN 978-5-9901283-8-5 : 120 экз.
- Волъкенштейн, В. М. Закон драматургии. M.-JI.: ОДП и К, 1925. – 90 с.
- Выготский, Л. C. Психология искусства. 3-е изд. - М.: Искусство, 1986.-572 с.
- Гаспаров, Б. М. Пять опер и симфония: cлово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров; [пер. с англ. С. Ильин]. – Москва: Классика-XXI, 2009. – 317, [2] с.: ноты; 21 см.; ISBN 978-5-89817-291-6.
- Орлова, А. А. Петр Ильич Чайковский. 1840-1893 [Текст]: Краткий очерк жизни и творчества: Книжка для детей сред. возраста. – Ленинград: Музгиз, 1955. – 101 с.: ил., нот. ил.; 22 см.
- Хаас, Д. Ленинградские модернисты: исследования в области композиции и музыкальной мысли, 1917–1932 / Д. Хаас (Нью-Йорк: издательство Питера Ланга, Inc., 1998), 60-2, с. 68.
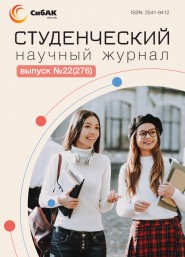

Оставить комментарий