Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 22(276)
Рубрика журнала: Искусствоведение
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7
ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОПЕРЕ «ВОЙНА И МИР» С. ПРОКОФЬЕВА
PECULIARITIES OF INTONATION PROCESSES IN THE OPERA «WAR AND PEACE» BY S. PROKOFIEV
Tatiana Lipko
master's student, Lugansk State Academy culture and arts. M. Matusovsky,
Russia Lugansk
Dmitry Pshekhachev
scientific supervisor, lecturer, Lugansk State Academy culture and arts. M. Matusovsky,
Russia Lugansk
АННОТАЦИЯ
Опера «Война и мир» С. Прокофьева основана на одноименном романе Л. Толстого и описывает события во времена Наполеоновских войн. Особенности интонационных процессов в этой опере включают в себя мощные и динамичные музыкальные темы, которые передают напряженность и эмоциональную глубину сюжета. Использование различных музыкальных жанров и стилей, от легкой лирики до эпических батальных сцен, создает кинематографичное впечатление и усиливает драматизм сюжета.
ABSTRACT
Prokofiev's opera «War and Peace» is based on Leo Tolstoy's novel of the same name and describes events during the Napoleonic Wars. The peculiarities of intonation processes in this opera include powerful and dynamic musical themes that convey the tension and emotional depth of the plot. The use of various musical genres and styles, from light lyrics to epic battle scenes, creates a cinematic impression and enhances the drama of the plot.
Ключевые слова: интонация, стилизация, лейтмотив, музыка, песня, вокальная интонация.
Keywords: intonation, stylization, leitmotif, music, song, vocal intonation.
«Война и мир» поставила перед С. Прокофьевым ряд уникальных задач, связанных с постановкой романа в виде оперы. Учитывая количество персонажей, их психологическую сложность и частые смены ракурса романа с внутриличностного на моменты эпического величия, произведение Л. Толстого было нетипичным источником либретто для русской оперной традиции. Чтобы эффективно уловить и сохранить суть текста Л. Толстого, С. Прокофьев был вынужден использовать композиционные стратегии, заимствованные из множества русских опер. Среди используемых техник С. Прокофьев придерживается «теории интонации», которую Б. Асафьев идентифицирует как основной ресурс для характеристики, используемый рядом русских композиторов XIX в. В данной статье рассматриваются вокальные интонации в опере «Война и мир», как ключевая стратегия для передачи идентичности персонажей и действующих лиц.
Одним из наиболее инновационных методологических инструментов в «Симфонических этюдах» является концепция интонации, которую М. Браун описывает как одну из «базовых теоретических принципов, из которых развилась современная соцреалистическая музыкальная методология». На сегодняшний день наиболее четкое определение дано М. Брауном, который определяет интонацию как любое звуковое проявление жизни или реальности, воспринимаемое или понимаемое (прямо или метафорически) как носитель смысла. Другими словами, интонация в ее простейшей форме – это реальный звук, производимый чем-либо, будь то природное явление (стон больного ребенка, завывание ветра, звук горна), с которым ассоциируется значение или которому приписывается значение. Таким образом, музыкальная интонация возникает, когда некоторый звук из жизненного опыта преобразуется в музыкальную фразу, как таковая, она сохраняет из первоначального интонационного источника то качество, свойство или характерную сущность, которая выражает смысл и, следовательно, обладает способностью пробуждать эмоции человека и затрагивать его чувства. Из определения М. Брауна легко понять, что интонация – это любое музыкальное представление физического звука, используемое в композиции с целью сознательной передачи внемузыкальной. ассоциации с её эквивалентом в реальном мире. Несмотря на ясность определения М. Брауна в нем, тем не менее, упускается из виду один существенный элемент, касающийся интонации как инструмента для понимания оперных композиций.
Наиболее существенный и устойчивый вклад Б. Асафьева в эстетику русской оперы – интонационный словарь представлен как неотъемлемое вокальное проявление. Действительно, как будет более подробно рассмотрено ниже, сама по себе мировая интонация является производной от её лингвистической концепции. Следовательно, как инструмент для изучения оперной композиции, интонации понимаются как вокальные мелодические элементы, неразрывно связанные с ранее существовавшими типами вокальной музыки. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что определение интонации еще более усложняется тем фактом, что собственная концептуализация теории Б. Асафьевым постепенно развивалась в течение всей его деятельности. В результате относительной эластичности определения с течением времени Д. Хаас утверждает, что «появление термина в работах Б. Асафьева наиболее понятны, когда они ограничены своим непосредственным контекста где они могут действовать в тандеме с его идеями о форме, мелодии и восприятии» [5]. Имея в виду это высказывание, настоящее исследование опирается на теорию интонации Б. Асафьева, переданную в «Симфонических этюдах». В этой монографии Б. Асафьев определяет интонации как «интонация в строго очерченных пределах соотношения интервалов, – только что выясненный подход от общего к частному выражается в подчинении звуковых речей действующих лиц предопределенному вокально-инструментальному руслу» [2, c. 84].
Вывод, который он продолжает развивать, заключается в том, что Н. Римский-Корсаков вводит «метод параллелизма» [2, c. 87] для оперных персонажей, смоделированный на акустических аспектах (т.е. интонациях) речь и песня эквивалентных людей из реального мира. В результате более четко прослеживается связь между интонацией и ее лингвистическим аналогом, который относится к музыкальному или акустическому аспекту речи. Благодаря своей взаимосвязи с лингвистической природой, интонации понимаются как музыкальные аналоги идиом естественной речи, которые могут определять идентичность.
В то время как некоторые интонации являются общими и, таким образом, идентифицируют на музыкальном уровне целые группы действующих лиц, другие интонации уникальны для конкретного персонажа. Более того, некоторые персонажи обладают музыкальным языком, состоящим из множества интонаций, что позволяет определить их множественную принадлежность.
В русской опере интонации способны идентифицировать социальный класс действующих лиц, род занятий и народность, регион происхождения. В другом месте в «Симфонических этюдах» Б. Асафьев указывает, что интонации – это стилизации устного общения, в котором имеет большое значение и оказывает большое влияние на формирование характеров.
С тех пор Б. Асафьев считает, что на музыкальные интонации влияют акустические аспекты разговорной речи, они могут появляться и проявляются во многих операх. Например, заимствованные из народной песни интонации встречаются во оперном творчестве Н. Римского-Корсакова (например, «Садко», «Майская ночь», «Сказка о царе Салтане»), П. Чайковского («Евгений Онегин», «Черевички») и М. Мусоргский («Борис Годунов»). Другими словами, интонация может легко функционировать за пределами одной отдельной оперы. Основываясь только на этих чертах, их следует отличать от таких музыкальных элементов, как лейтмотивы, которые передают смысл, определяемый исключительно через драматический контекст, и которые не могут быть перенесены на другое оперное произведение.
Однако, поскольку и русская интонация, и немецкий лейтмотив являются компонентами музыкальной речи, которые передают смысл и используются циклически, важно уточнить различия далее. А. Уитталл определяет лейтмотив в «New Grove Dictionary of Opera» как тему или другую связующую музыкальную идею, четко определенную таким образом, чтобы сохранить свою идентичность, если она будет изменена при последующих появлениях, цель которой – представлять или символизировать человека, объект, место, идею, душевное состояние, сверхъестественную силу или любой другой компонент драматического произведения. Лейтмотив может быть музыкально неизменен при возвращении или изменён в ритме, промежуточной структуре, гармонии, оркестровке или сопровождении, а также может сочетаться с другими лейтмотивами, чтобы предложить новую драматическую ситуацию.
Однако концепция лейтмотива также универсальна, так что лейтмотивы также могут использоваться для представления или символизации элементов внутри драмы. Исполняемые оркестром, лейтмотивы могут быть связаны с любым живым или неживым предметом, связанным в драматических рамках оперы. Интонации, напротив, обычно извлекаются из пения или вокального дискурса действующих лиц. Они не представляют отдельных персонажей. Скорее интонации выполняют более общую семиотическую функцию, придавая дополнительный уровень значения конкретной ситуации.
Таким образом, интонации могут идентифицировать как отдельных людей, так и группы через коннотации социального класса и рода занятий в дополнение к региональным ассоциациям. Интонации и лейтмотивы далее различаются на основе средств, с помощью которых они создают свои драматические ассоциации. Большинство лейтмотивов не достигают своего значения благодаря использованию ранее установленных музыкальных паттернов. Другими словами, лейтмотивы не основаны на музыке, которая существует за пределами самой оперы. Их драматические ассоциации создаются при первоначальном представлении как часть структуры оркестрового аккомпанемента в сочетании с текстом, исполняемой в определенный момент. Без подачи текста лейтмотиву не хватило бы смысла. Хотя они могут в общем виде относиться к ранее существовавшей музыке. Лейтмотивы приобретают особое значение в драматическом контексте отдельной оперы. Следовательно, они не могут функционировать в другой опере без предварительного установления музыкально-драматических ассоциаций в новом музыкальном контексте.
Большинство интонаций, с другой стороны, являются вокальными по своей природе из-за их функции музыкального представления речи персонажа. Взаимосвязи с определенными типами действующих лиц достигаются за счет использования ранее установленных и хорошо известных музыкальных знаков (например, узнаваемых стилей народных песен, используемых для обозначения народных персонажей).
Таким образом, как указывалось ранее, интонации способны эффективно функционировать за пределами конкретной оперы и часто используются в других операх. Интонации и лейтмотивы также различаются по своей функции преподнесения тематического материала в рамках оперы.
Интонации не всегда функционируют как первичные темы. Оркестр может развивать их посредством извлечения и манипулирования высотой тона или ритмическими формулами. Чаще они остаются строго вокальными феноменами, никогда не появляющимися в аккомпанирующей ткани оркестра и, возможно, ограниченными одной сценой. Когда в оркестре появляются интонации, они обычно удваиваются и, как следствие, усиливают вокальные партии, из которых они возникли. Несмотря на то, что характеристики песни в форме интонации используются в качестве заменителей стилей речи персонажей, интонации не обязательно являются воспроизведением или репрезентациями песен во всей их полноте. Вместо этого они сильно стилизованы и могут опираться на различные речевые идиомы и региональные категории народных песен, доступные для соответствующих действующих лиц. Элементы песни не привязаны к определенному местоположению, однако; они также не привязаны к конкретному контексту исполнения. Например, исполнение русского православного песнопения не ограничивается сценами, включающими религиозное поклонение. Духовенство может быть представлено интонациями, основанными на распеве в качестве средства коммуникации. Следовательно, использование народной песни или материалов, похожих на народные песни, для идентификации крестьянского характера не ограничивается сельской обстановкой. Такое появление просто подразумевает, что народная песня является естественным проявлением музыки для персонажа и, следовательно, естественным средством передачи его или ее индивидуальности с музыкальной точки зрения. Б. Асафьев утверждает, что «такое прикрепление действующих лиц и моментов драмы по категориям песенного стиля к общему руслу, рассматриваемое как настойчиво проведенный метод характеристики влечет за собою определенный вывод. Все лица и весь ход действия принадлежат не самим себе, не выводятся как самостоятельные величины, а являются вовлеченными в сферу действия им неведомой, но ими управляющей силы» [2, c. 85].
Следовательно, интонации играют семиотическую роль в опере, передавая информацию о действующих лицах посредством музыкальных знаков, которые вызывают ассоциации у аудитории с особенностями речи и песни конкретного региона. Значение, придаваемое интонации, вполне может быть функцией важности песни как аспекта русской и славянской культур в целом.
Утверждение Б. Асафьева о том, что русская музыка XIX в. во многом уходит корнями в народную музыку, увековечивает значение песенной традиции. Это особенно верно, если учесть огромное количество различных песен, представленных по всей России.
Использование C. Прокофьевым интонации в «Войне и мире» отличается от такового у композиторов XIX в. по двум принципам. Возможно, что эти различия объясняются природой «Войны и мира» как романа и, следовательно, его реализацией в виде оперы.
Во-первых, С. Прокофьев использует интонации почти исключительно в сочетании с второстепенными персонажами и группами действующих лиц. Поскольку роман Л. Толстого в основном посвящен психологии главных героев, реакции каждого из них на реалии войны довольно индивидуальны. Стилизация, часто приписываемая интонации, не позволяет точно выразить их психологические состояния.
Во-вторых, из-за их общей ассоциации с второстепенными персонажами, интонаций в «Войне и мире» значительно больше, чем во многих операх композиторов XIX в.
Одними из наиболее легко узнаваемых интонаций в «Войне и мире» являются те, которые связаны с группами персонажей. В частности, сцены с участием русского крестьянства особенно показательны. С. Прокофьев посвятил много времени тому, чтобы представить этих персонажей как можно более многогранно. В результате присутствие крестьян на сцене несколько ограничено. Тем не менее, используя интонационность, С. Прокофьев наиболее полно передал образ русского народа.
Из народных интонаций в «Войне и мире» лучший пример появляется в середине и связан с группой русских крестьян, которые натыкаются на разбросанные листовки, напечатанные в ответ на горящие здания в Москве. Интонационный словарь С. Прокофьева опирается на спектр музыкальных характеристик русской народной песенной традиции. Иллюстрирует двумя характерными русскими народными песнями XV-XVII вв.
Во-первых, выбор С. Прокофьевым диатонических ладов согласуется с русской народной песней традицией. Во-вторых, использование неправильных метрических скороговорок типично для русского фольклора. С. Прокофьев не стремится копировать стиль какого-либо конкретного жанра русской народной песни; его концепция интонации, ориентированной на фольклор, более неоднозначна, чем у его бывшего учителя. Тем не менее, благодаря сочетанию музыкальных черт С. Прокофьев эффективно усиливает идентичность персонажей, связанных с интонацией, как части русского крестьянского класса.
Использование С. Прокофьевым общих музыкальных характеристик также продемонстрировано в его построении интонации для отдельных героев. Лучше всего это проиллюстрировано в интонации цыганки Матреши. Появляясь рядом Анатолем Курагиным, его другом Долоховым и кучером Балагай, Матреша замечены помогая мужчинам подготовиться к запланированному побегу Анатоля с Наташей Ростовой. Пока трое мужчин ведут продолжительный разговор по ходу сцены, Матреша говорит только в последние моменты сцены и получает только десять музыкальных тактов, чтобы спеть. С. Прокофьев включает две музыкальные экзотики в вокальную линию Матреши, которая ассоциируется с цыганами Восточной Европы.
Композитор использует краткое вокальное украшение во вступлении вокальной партии Матреши (т. 82). Хотя на первый взгляд оно может показаться незначительным, но остается единственным в опере. Как указывает Дж. Беллман, «изобилие маленьких, звенящих украшений» было классической экзотикой, использовавшейся композиторами в девятнадцатом веке для создания слуховых образов цыган» [2, c.83]. Интонация включает примечательный тембральный компонент, уходящий корнями в турецкую родословную цыганской музыки. Используя гобой для удвоения вокальной партии, С. Прокофьев в точности имитирует звучание турецкой зурны. В отличие от примеров, рассмотренных выше, которые показывают, как C. Прокофьев использовал интонации для замены речи персонажа, некоторые интонации в «Войне и мире» проявляются в виде пассажей оригинала. Интонации этого типа встречаются с несколько большей частотой, чем те, которые используются исключительно для замены речи персонажа. Однако функция песни-интонации остается прежней. Они используются для эффективного предоставления информации о классе, региональном, национальном происхождении и роде занятий связанных персонажей. Это продемонстрировано в интонации казачьей песни. Прибывшая, чтобы присоединиться к русским солдатам в их битве против армии Наполеона, группа казаков является слушателю казачьей народной песней, подробно описывающей героическую природу их народа («Как стрелы наши кони за врагом взвились в погоне, лихо летят»). Песенная интонация демонстрирует ту же относительную народную простоту, относящуюся к Дуняше и Матвееву. Хотя лад отличается от такового в предыдущем примере, Казачья песня аналогична диатонической, лишенной каких-либо хроматических изменений. Более того, тройной метр интонации помогает отличить казаков от солдат
Веселые, танцевальные ритмы казачьих песен находятся в прямом контрасте с простыми, похожими на марш ритмами и аккомпанементом военных барабанов и труб русского солдата песни, звучавшие до сих пор в опере. Одна песня-интонация в «Войне и мире», однако, выделяется среди остальных благодаря ее уникальной ассоциации с главным персонажем, а не с одним из второстепенных персонажи оперы. Во вступительной сцене оперы, пока князь Андрей размышляет о своем возродившемся интересе к жизни, в одном из окон над ним появляются Наташа Ростова и ее двоюродная сестра Соня. Не подозревая о его присутствии, молодые девушки болтают о невозможности уснуть и красоте мира за их окнами. Вскоре после этого две девушки заводят кратковременную песню. Интонация компенсируется изменением тональности на ля-бемоль мажор и выполняется поверх простой схемы аккомпанемента, состоящей из устойчивых басовых ходов и гармоний аккордов.
В сочетании с лирическим стилем исполнения вокальной линии, интонация песни демонстрирует многие музыкальные черты, связанные с традицией русского романса начала XIX в. Присваивая характеристики этой песенной традиции и связывая их с Наташей и Соней. С. Прокофьев передает аристократический социальный статус двух молодых женщин. Хотя можно интерпретировать использование композитором интонации в «Войне и Мир» как попытку связать его творчество с русской оперной традицией XIX в., важно отметить, что анализируя интонации в «Войне и мире» могут возникнуть проблемы. В отличие от Н. Римского-Корсакова, С. Прокофьев не тщательно документировал, где он первоначально нашел некоторые исходные материалы, которые он использовал в опере. Например, хотя мы знаем, что он исследовал народные мелодии начала девятнадцатого века, неясно, когда, если вообще когда-либо, он соприкоснулся с цыганской песней. Аналогичным образом, музыка, используемая совместно с французскими солдатами, явно звучит отличается от музыки российской армии, но неясно, из каких исходных материалов С. Прокофьев опирался на построение их интонации. Независимо от подлинности интонации, которую он использовал в «Войне и мире», однако, влияние музыки Н. Римского-Корсакова на С. Прокофьева совершенно очевидно. Хотя он предпочитает не цитировать напрямую интонации, используемые его бывшим учителем, эта техника явно работает в опере, позволяющая ему передать второстепенных персонажей более реалистично и более живо.
Список литературы:
- Аникин, В. П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. М.: Изд-во МГУ, 1980. – 331 с.
- Асафьев, Б. В. «Симфонические этюды» – М.: Композитор, 2008. – 83-87 с.
- Прокофьев, С. С. Сергей Сергеевич Прокофьев о Прокофьеве: Статьи и интервью / Сост., текстол., ред. и коммент. В.П. Варунца. М.: Советский композитор, 1991. 285 с Прокофьев С.С. Материалы. Документы. Воспоминания. – М., 1961.
- Прокофьев, С. С. (1891-1953.). Семен Котко. Т. 2: Опера в 5-ти д.: С предисл. / Либретто В. Катаева и С. Прокофьева по повести В. Катаева «Я, сын трудового народа». – Москва : Музыка, 1967. – с. 37.
- Хаас, Д. Ленинградские модернисты: исследования в области композиции и музыкальной мысли, 1917–1932 / Д. Хаас (Нью-Йорк: издательство Питера Ланга, Inc., 1998), 60-2, с. 68.
- Холодов, Е. Г. Композиция драмы. М.: Искусство, 1957. – 224 с.
- Brown, Malcolm “The Soviet Russian Concepts of ‘Intonazia’ and ‘Musical Imagery.’” The Musical Quarterly 60, no. 4 (October 1974): 557–67.
- Whittall, Arnold. «Leitmotif.» In Grove Music Online. Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com (дата обращения 11.02, 2024).
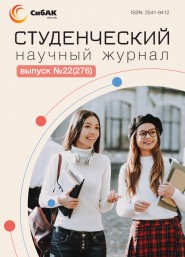

Оставить комментарий