Статья опубликована в рамках: XCVIII Международной научно-практической конференции «Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки» (Россия, г. Новосибирск, 08 сентября 2025 г.)
Наука: Искусствоведение
Секция: Изобразительное и декоративно- прикладное искусство и архитектура
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОБРАЗЫ В КАЗАХСКОЙ ГРАФИКЕ: ДИАЛОГ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается взаимодействие фольклора и казахстанской графики конца XX — начала XXI века на примере творчества Кадырбека Каметова и Темирхана Ордабекова. Представлен комплексный анализ визуальных образов с учётом иконографических особенностей, технических приёмов и композиционных решений. Исследование базируется на сочетании иконографического и формально-стилистического методов, а также включает семиотическую интерпретацию, что позволяет раскрыть глубокий смысловой потенциал рассматриваемых художественных произведений. Применён сравнительно-исторический подход, обеспечивающий выявление эволюции и взаимосвязей в развитии образной системы.
Ключевые слова: фольклор; графика Казахстана; линогравюра; литография; традиция; инновация.
В настоящее время фольклор активно трансформируется в соответствии с историко-политическими и социально-экономическими условиями общества. Жанровое многообразие и художественные функции фольклора обновляются, приобретая новые формы и смысловое наполнение. Взаимосвязь традиционного наследия и профессионального искусства особенно отчетливо прослеживается в графике, где народные мотивы становятся важнейшим источником художественного образа [1, с. 5].
Таблица 1.
Методологическая структура исследования
|
Этапы исследования |
Цель |
Задачи |
Методы |
Результаты |
|
Теоретический этап
|
Определить взаимосвязь фольклора и изобразительного искусств. Выявить образную специфику фольклора |
Проанализировать труды по литературе и по искусству |
Сравнительно-исторический анализ, теоретический обзор литературы |
Обоснованы теоретические основы влияния фольклора на изобразительное искусство |
|
Историко-культурный этап
|
Рассмотреть развитие графики Казахстана в 1960–1970-е гг. |
Раскрыть особенности становления графики данного периода. Определить роль социо-культурных условий в формировании «национальной школы» |
Историко-культурный анализ и искусствоведческий подход |
Выявлены факторы, способствовавшие развитию национального направления в графике |
|
Аналитический этап
|
Проанализировать творчество отдельных художников |
Рассмотреть вклад Е. Сидоркина, М.Кисамединова, И. Исабаева, К.Каметова, Т.Ордабекова. Определить специфику фольклорных мотивов в их произведениях |
Художественно-стилистический анализ, структурно-образный анализ |
Показана роль фольклорных традиций в формировании индивидуального стиля художников |
|
Обобщающий этап
|
Сформулировать выводы и практическую значимость исследования |
Систематизировать полученные данные. Определить значение результатов для искусствознания и культурологии |
Синтез, интерпретация |
Сформулированы выводы о месте фольклора в развитии казахского изобразительного искусства |
Между графическим искусством и фольклором существует тесная связь. Творчество таких мастеров, как Исатай Исабаев, Макум Кисамединов и Евгений Сидоркин, демонстрирует обращение к образной системе фольклора, в котором заложена особая эстетическая категория. Подобие образов не является статичным: происходят изменения в зависимости от эпохи, отражая актуальные художественные и культурные запросы общества. Таким образом, фольклор в графике становится способом художественного обобщения и философского осмысления действительности, что характерно и для других видов искусства – литературы, музыки, театра и кино.
Художники, чей творческий путь начался в советское время, продолжили свою плодотворную деятельность и в годы независимости Казахстана. Среди таких мастеров следует отметить Кадырбека Каметова и Темирхана Ордабекова, поскольку их произведения насыщены фольклорными и историко-культурными мотивами.
Работающим в жанре фольклорной графики художником является вышеупомянутый Кадырбек Каметов. Его творческая биография символично начинается с детского конкурса, где он изобразил тюльпан, который стал структурным элементом последующих графических произведений мастера [8, с. 7]. Работая в данном жанре, Каметов создаёт многосложные, многофигурные композиции. Как отмечает Бауржан Байдильда: «Особенность его произведений – тонкая чувственность графики, умелое использование цветовой палитры. Он виртуозно сочетает серые, светло-серые и тёмные тона с белым, внося уникальный вклад в сокровищницу казахской графики». В своих произведениях Каметов демонстрирует четкую ориентацию на жанровые сцены, эпические сюжеты и лиро-эпические мотивы: «Тусау кесер» (бумага, литография, 50×60, 2011), «Девушка с сыбызгы» (бумага, цветная литография, 30×40, 2010), «Молодёжь» (бумага, цветная литография, 30×40, 2010), «Алтыбакан» из серии «По мотивам стихов Абая» (1986), «Печальная красавица» и «Коксерек» по М. Ауэзову (бумага, цветная литография, 41×32, 1988), «Баян сулу» (бумага, цветной карандаш, 49×42, 2009), «Козы Корпеш» (бумага, цветной карандаш, 72×57, 2009), «Кочевники на конях» (бумага, пастель, 70×60, 2005) и др. [9]. Ключевой особенностью языка Каметова является равноправие линии и пятна, сведённых в напряжённую пластическую игру светотени. Эта стратегия обеспечивает эффект «Дыхания» композиции и позволяет добиваться драматургии без избыточной детализации лица или жеста. Знаковая для художника литографическая серия (1986) возникла как издательская задача, но была осмыслена им как самостоятельный станковый цикл, где каждая композиция обладает внутренней завершённостью. В произведение «Алтыбакан» диагональная схема уравновешена круговым распределением фигур, а также динамика ветра, качелей и огня противопоставлена почти иконописной статике женского образа. Если у Исабаева темнота ночи передана с помощью штрихов, изображающих небо, то в произведении Каметова отчётливо видны луна и звёзды. Мы видим, что художник изобразил сцену с высоты, а распределение фигур в пространстве подчёркнуто светотенью и круговой композицией. Каметовские работы основаны на сочетании линии и пятна. Несмотря на тематическое и композиционное сходство с произведениями Исабаева, в работах обоих художников отчётливо видны индивидуальные особенности и технические различия. В произведении Каметова молодёжь формирует замкнутый круг, создавая тем самым некий собственный мир. В то же время, в композиции Исабаева персонажи находятся ближе к зрителю и, как будто, вот-вот покинут пространство картины. Эпические серии «История моего народа» (1986), «Женщины Казахстана на трудовом фронте» (1984), «Звериный стиль» (1987), «Тюркский лик» (2010) упрочивают масштаб повествования, совмещая трагическое и героическое начало, тогда как цикл «Детство. Запомнившееся» (1982) вводит лирический план — память как эмоциональный архив. Графические серии Каметова дополняются живописными интерпретациями лиро-эпоса «Козы Корпеш — Баян Сулу», где выбор интенсивных колористических акцентов сопрягается с поэтической интонацией сюжета. Таким образом, в лице Кадырбека Каметова мы видим не только последовательного интерпретатора фольклора, но и автора, который возвращает традиционному мотиву станковую масштабность, пространственную сложность и актуальную эмоциональную «настройку». В следующем разделе целесообразно рассмотреть модусы фольклорной образности в казахской графике конца XX — начала XXI века как систему приёмов (композиция, светотень, линейно-пятновая структура, ракурс), сопоставив их с книжной иллюстрацией и плакатом на примере ключевых серий Каметова [8; 9].
Продолжая заявленную проблематику, логично рассмотреть творческую стратегию Темирхана Ордабекова как особый «лингво-стилистический» регистр казахской фольклорной графики, где традиционный сюжет преображается через энергетику линогравюры и пластическую выразительность контраста. В отличие от ориентированной на книжную страницу иллюстративной логики (характерной для многих проектов советского периода), у Ордабекова доминирует станковое мышление: лист мыслится как автономная сцена, в которой композиция собирает драму, а не сопровождает её. Опыт Сенежской творческой базы и диалог с разными школами — от Гойи до Фаворского и Кравченко — укрепили у художника доверие к «чёрному пятну» как к самоценной образной силе. В линогравюре Ордабекова чёрное — не просто тень, а драматургический агент: оно структурирует пространство, лепит фигуру, задаёт эмоциональный тембр и синкопирует ритм штриха. Тем самым достигается редкая для печатной графики «скульптурность» поверхности при сохранении её плоскостной природы. Две ключевые линии образности — цикл о жырау и серия по Макатаеву — демонстрируют, как художник переводит поэтическое слово в синтаксис силуэта, контрапункта и орнаментальной метафоры. В портретных и сюжетных листах («Раимбек — Раимбек», фронтиспис к Макатаеву, композиции о Доспамбете, Ақтамберды и Бухар жырау) внутренняя драматургия строится на встрече крупного обобщённого пятна и «шепота» линейных деталей: клетка-юрта, птица-жаворонок, фрагменты коврового орнамента и элементы быта работают как знаки памяти, связывая индивидуальную судьбу с историческим временем. Облачный «плинтус» заднего плана, обнаруженный критикой, выполняет функцию композиционного клея: он объединяет многосюжетность и придаёт сцене эпическую протяжённость. Художник сознательно нарушает рамку листа — фигуры «выходят» за пределы, усиливая эффект присутствия и зрительской вовлечённости. В «Прибытии Акан сери на поминки» понятно считывается антагонистическая ось: благородная, «просветлённая» вертикаль героя противопоставлена скрытому жесту и деформированному силуэту злодея. Этот конфликт решён средствами пластики, а не повествовательного комментария: баланс белого поля и чёрной массы несёт этический смысл. Таким образом, Ордабековская линогравюра являет редкую для локальной традиции «эпическую станковость»: книжное происхождение ряда серий не умаляет их автономности — напротив, каждая композиция функционирует как завершённый образ мира, где фольклор — не «сюжет-предлог», а метод художественного мышления [10].
В свете анализа двух авторов обозначаются различимые модели взаимодействия с наследием:
Кадырбек Каметов — пространственно-световая модель жанровой сцены. Равноправие линии и пятна, круговые и диагональные схемы, динамика среды (ветер, огонь, ночное небо) организуют «внутренний мир круга» — автономное пространство общинной жизни («Алтыбакан» и серия по Абаю) [8; 9].
Темирхан Ордабеков — экспрессивно-эпическая модель линогравюры. Чёрная масса как носитель смысла, выход фигуры за рамку, орнамент как оператор памяти, символическое кодирование (жаворонок/ангел, клетка-юрта) формируют высокую эмоциональную напряжённость и обобщённость.
Подводя итоги, рассмотрение творческого пути К.Каметова и Т.Ордабекова позволяет проследить два принципиально разных, но взаимодополняющих вектора в развитии казахстанской графики второй половины XX – начала XXI века. Каметов сосредоточился на создании лирико-жанровой модели, где фольклорные сюжеты, традиции и бытовые сцены превращаются в камерные визуальные поэмы. Его работы отличаются мягкой пластикой, тонкой литографической градацией и вниманием к состоянию персонажей. В отличие от него, Ордабеков выстраивает собственную стратегию через экспрессивность и символизацию. Его линогравюры основаны на контрасте черного и белого, на напряжённой силуэтной динамике и орнаментальном каркасе, который связывает композицию в единое целое. В его творчестве графический знак превращается в метафору, а орнамент выступает не украшением, а смыслообразующей структурой. Таким образом, сравнительный анализ показывает, что Каметов и Ордабеков представляют два различных подхода к интерпретации фольклора в графике: первый стремится к гармонизации и лирическому осмыслению, второй — к экспрессии и концептуальной символике. Однако их общая заслуга заключается в том, что оба художника сумели преобразовать традиционные мотивы в актуальный художественный язык, способный говорить со зрителем разных поколений. Оба мастера расширили границы графики Казахстана, сделав её значимой частью мирового художественного процесса. Их работы не только сохраняют фольклор как культурное наследие, но и демонстрируют его потенциал как живого источника художественных инноваций.
Список литературы:
- Қазіргі әдебиет және фольклор /М.Әуезов ат.ӘӨИ-ның ұжымдық басылымы/. –Алматы: «Арда» 2009.
- Кенжеахметұлы С. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. 2-басылым. –Алматы: «Атамұра», 2013.–384бет.
- Алибеков Ш.А. Эстетика казахского фольклора. –Алматы: «Принт», 2001.
- Исабаев И.каталог АО «Таймас Принтхаус» баспаханасында басылды. –Алматы: 2007.
- Ергалиева Р.А. От поэзии сказаний к поэтике красок, фольклорные образы и мотивы в казахской живописи и графике. – Алматы: 2010.
- Сарыкулова Г. Графика Казахстана. –Алма-Ата: «Наука» казахской ССР, 1967.
- Каметов Қ. «Өмір мен табиғат үңдестігі»
- Каметов К. Графика, кескіндеме. –Алматы, 2012.
- Рисунок жизни Темирхана Ордабекова //Казахстанская правд. №159-160, 2001, 7июля.
дипломов
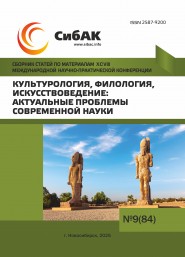

Оставить комментарий