Статья опубликована в рамках: XXVIII Международной научно-практической конференции «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» (Россия, г. Новосибирск, 30 сентября 2013 г.)
Наука: Филология
Секция: Германские языки
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
дипломов
ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ФАЗОВОЙ ДИНАМИКИ ИМАЖИНЭРА
Игина Зоя Александровна
доцент, канд. филол. наук, Нежинский государственный университет имени Гоголя, доцент кафедры германской филологии, Нежин
E-mail: g
THE IMAGINARY IN DYNAMICS: WAYS OF LINGUISTIC REALISATION
Zoya Ihina
associate professor, PhD in Philology, Nizhyn Gogol State University, associate professor of Germanic philology department, Nizhyn
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу имажинэра в динамике путем определения языковых сигналов, указывающих на фазовые переходы внутри него и актуализируемые синхроническим антропологическим траэктом. Синхронический траэкт толкуется как языковая личность (персонаж произведения) со свойственными ей (языковыми) особенностями в определенный период (в конкретной фазе). Корреляция языковой личности и имажинэра объясняется в терминах семантической пропорции как эквивалентная отношению между траэктом и текстом. Языковая личность и антропологический траэкт относятся к имажинеру и тексту как фигура к фону.
ABSTRACT
The article is dedicated to analysing l'imaginaire (the imaginary) in its dynamics by means of finding language signals that mark systematic phase transitions actualised by a synchronic anthropological trajectory. The synchronic trajectory in the article is treated as a language personality characterised by his (language) peculiarities in a certain period (phase). Correlation between 'language personality' and 'the imaginary' is defined in terms of semantic proportion as equivalent to the relation between 'trajectory' and 'text'. 'Language personality' and 'anthropological trajectory' refer to 'the imaginary' and 'text' as the figure to the ground.
Ключевые слова: имажинэр; режим; траэкт; фаза; языковая личность.
Keywords: imaginary; language personality; phase; regime; trajectory.
Цель статьи состоит в обосновании гипотезы, что психическое состояние языковой личности в условиях вынужденной изоляции — это систематическое отражение в языке эволюции примарных структур воображения как замкнутой в себе идентичности.
Заданиями, следующими из цели, являются: 1) определение терминов «имажинэр» и «фаза» (а также связанных с ними их производных) и установление их корреляции с понятием языковой личности; 2) описание динамики функционирования имажинэра, реализованного путем вербальной фиксации психического состояния языковой личности в дневниковых записях; 3) выявление языковых сигналов, указывающих на смену режимов имажинэра (или фазовых переходов).
Объект исследования составляют фазы имажинэра, предмет — языковые особенности этих фаз. В качестве материала использован рассказ Ш. Перкинс-Гилман «Желтые обои» [3].
Термин «имажинэр» (l'imaginaire) развивает юнгианскую концепцию коллективного бессознательного и лежит в основе междисциплинарной теории воображения, предложенной Ж. Дюраном как инструмент изучения рационального (логоса) при помощи иррационального (мифоса). С французского языка он может быть переведен как «мир воображения» [1, с. 85], поскольку охватывает как субъект и объект, так и, собственно, процесс воображения, в котором задействованы и субъект, и объект. Это первичное свойство бытия и в то же время актуализация того, кто воображает, воображения как способности того, кто воображает, воображаемого (того, что воображается), самого процесса воображения, а также предпосылок для существования всего перечисленного (сущности воображения). Динамическое функционирование воображения онтологически реализуется и как внутреннее измерение субъекта, и как объекты внешнего мира, объединяемые им, и как их связь. Эта связь определяется термином антропологический траэкт (лат. tras — «между» и jacere — «бросать») [1, с. 87], т. е. нечто, находящееся между субъектом и объектом, причем и субъект, и объект — его роли. Траэкт является «траекторией», устанавливающей взаимодействие режимов, структур, фаз мира воображения, а его антропологичность обосновывается необходимостью человека как актуализатора имажинэра (в том же смысле, в каком речь актуализирует язык).
Таким образом, поскольку траэкт — априори гетерогенный и многомерный феномен (репрезентант), реализующий имажинэр (целое), то динамика, придаваемая им каждому отдельному факту реализации, может характеризоваться произвольной трактовкой природы целого (также, соответственно, гетерогенного) с опорой на условия, прямо зависимые от субъект-объектных установок.
Так, персонаж литературного произведения есть антропологический траэкт, потенциально воплощающий автора и читателя как совокупного продуцента определенной идеи и вариантов ее осмысления. Сама же идея (предпосылка и перспектива бытия траэкта) — имажинэр. Осмысление идеи (выстраивание целого) происходит фрагментарно, фазами: в определенный момент она является гомогенным фрагментом гетерогенного целого. Переход на другую ступень осознания (уровень целого) знаменует фазовый переход. Например, в оппозиции «всадник :: конь» компонент «всадник» — это сочетание в одном значении сем «человек» и «животное», двумерный объект, а «конь» — одномерный, коррелирующий с первым как часть (фаза низшего уровня) с целым (высшим) [2, с. 322—323].
Корреляцию между языковой личностью и имажинэром можно определить в терминах семантической пропорции как эквивалентную отношению между траэктом и текстом (реализацией личности и реализованной личностью), где языковая личность и траэкт выполняют функцию фигуры, а имажинэр и текст — фона. Персонаж художественного произведения, анализируемый как языковая личность (т. е. в совокупности гендерных, возрастных, этнических и др. особенностей, присущих ее языковому паспорту [с. 41—49]), является аспектом выражения траэкта. Фаза в имажинере предусматривает фиксированное состояние траэкта в определенный момент (синхронический траэкт), а релевантная фазе языковая личность соотносится с ситуативными элементами целенаправленной языковой деятельности.
Динамика функционирования имажинэра толкуется посредством идентификации универсальных паттернов (режимов) коллективного бессознательного (или мифоса), т. е. совокупности первичных структур (мифов, архетипов, символов), отражающих глубинные свойства воображения [1, с. 88]. Режим, доминирующий в определенной фазе (например, в значимом культурно-историческом периоде развития общества или, напротив, в сугубо индивидуальном психическом состоянии), обусловливает способ выявления траэкта. Таких режимов выделено два [1, с. 91—98, 100—102, 109—110, 120—128]: диурн (фр. "diurne" — дневной), основывающийся на героическом аспекте мифоса (соответственно, героических мифах) и ноктюрн (фр. "nocturne" — ночной) — ориентированный на две группы гетерогенных мифов: драматические и мистические. В основе диурна (режиме героя) лежит принцип дуализма, радикальной дифференциации, оппозиции, столкновения: при дневном свете предметы выглядят четко, не сливаются со средой. Герой — это тот, кто отсекает, прорывает, бросает вызов смерти и разным видам чужеродности. Ноктюрн базируется на принципе эвфемизма (в понимании сглаживания, снятия жесткой дуальности диурна: ночью предметы сливаются со средой). Эвфемизм более выражен в ноктюрне мистическом (режиме матери), который противоположен диурну в своей направленности на единство и интеграцию (жизни и смерти, добра и зла, нормальности и сумасшествия и т. д.), тогда как ноктюрн драматический (режим танцора) предусматривает не слияние, а циклические, ритмические изменения элементов оппозиции. В содержательном плане диурнальные структуры имажинэра связаны с войной (личным врагом, природой, обществом, собой), ноктюрнальные — с миром (консенсусом, любовью, примирением, покоем, сном), в плане выражения каждому режиму отвечают ключевые для него риторические фигуры: диурну — антитезис (выраженное противопоставление элементов), гипербола (увеличение героем значимости своей позиции и масштабов деятельности), плеоназм (акцентуация на определенном качестве, навязывание своей героической воли); ноктюрну мистическому — антилогия (противоречие себе), катахреза (единство несовместимых буквальных значений), литота (приуменьшение в противоречие гиперболе); ноктюрну драматическому — гипотипоз, т. е. транспозиция времен (представление будущего или прошлого как настоящего и наоборот).
Описание нестабильного психического состояния главной героини рассказа «Желтые обои» — это намеренно созданная иллюстрация постепенной потери рассудка, «скольжения» в сумасшествие. Интересно, что фазы ухудшения ментального здоровья соотносятся с режимами имажинэра, а каждая такая фаза фиксируется вербально, поскольку персонаж организованно записывает свои переживания в дневник. Элементом-катализатором способа функционирования имажинэра выступает в рассказе раппорт обоев, в каждой фазе приобретающий для героини принципиально иные формы. По сюжету, женщина часами находится в комнате, где ей советует отдыхать ее муж-врач (Джон), и, так как он запрещает ей активную деятельность, рассматривает обои и ведет тайный дневник. Ее так называемая нервная слабость (a nervous weakness) связана с чрезмерной, по мнению Джона, привычкой фантазировать (a habit of story-making), присущей творческим натурам, потому лечение состоит в круглосуточном отдыхе. Вынужденная обездвиженность в замкнутом пространстве стимулирует напряженную работу воображения, что и приводит (в конце повествования) к патологическим последствиям.
Героиня как языковая личность (согласно дневнику) — американка. Об этом свидетельствует написание таких слов, как "arbor", "color", "odor", "parlor", "realize", что отвечает правилам орфографии американского варианта английского языка. Ее хобби — видимо, литературное творчество, категорически отвергаемое ее мужем: he hates to have me write a word... and hardly lets me stir without special direction. Склонность к творческой работе подтверждает большое количество метафорических эпитетов, квалифицирующих способ ее мировоззрения как синестетический (heavy opposition, yellow smell — тяжелое противостояние, желтый запах). Также она, вероятно, недавно стала матерью. В дневнике часто в позитивном ключе упоминается «чудесный малыш» (such a dear baby), подсознательно ограждаемый ею от неприятной комнаты: the baby does not have to occupy this nursery with the horrid wallpaper (малышу не нужно жить в этой детской с ужасными обоями).
Возможно, таинственная болезнь (slight hysterical tendency — легкая предрасположенность к истерии), от которой Джон «лечит» жену, — послеродовая депрессия. Именно она связана с первой (по хронологии событий) фазой имажинэра в рассказе. Эта фаза является диурнальной, так как по сюжету основывается на тематике войны: героиня соглашается бороться с болезнью, симптомом которой считает свои странные фантазии о желтых обоях: I take phosphates or phosphites — whichever it is, and tonics, and air, and exercise. Она послушно становится на сторону мужа, в ком видит воплощение неизменно рассудительного уважаемого врача (a physician of high standing), и сопротивляется навязчивому влиянию обоев, только лишь раздражающих ее в этой фазе чужеродной алогичностью мышления дизайнера: It is… enough to constantly irritate and provoke study… The color is repellent; a smouldering unclean yellow. Рисунок обоев постоянно раздражает и принуждает изучать его. Грязно-желтый цвет очень отталкивает.
Следующая фаза, ноктюрнальная драматическая, характеризуется ослаблением противостояния героини и обоев (I'm getting really fond of the room in spite of the wallpaper. Perhaps BECAUSE of the wallpaper) и варьируется с моментами возвращения к предыдущему отвращению (This wallpaper has a kind of sub-pattern in a different shade, a particularly irritating one, for you can only see it in certain lights), особенно днем (By daylight, there is a lack of sequence, a defiance of law, that is a constant irritant to a normal mind), так как днем в нем нет последовательности, а лишь открытое пренебрежение законами изображения, что раздражает нормальный ум.
Однако ночью, при луне, оппозиция снимается: рисунок на обоях теряет четкость и сливается сперва в хаотическое нагромождение линий и завитков (This thing was not arranged on any laws of radiation, or alternation, or repetition, or symmetry … they… run off in great slanting waves of optic horror, like a lot of wallowing seaweeds in full chase), а дальше в цельный образ женщины, заключенной за рисунком, как за тюремной решеткой (At night in any kind of light, in twilight, candle light, lamplight, and worst of all by moonlight, it becomes bars! … the woman behind it is as plain as can be. I didn't realize for a long time what the thing was that showed behind, that dim sub-pattern, but now I am quite sure it is a woman. By daylight she is subdued, quiet. I fancy it is the pattern that keeps her so still). Хотя решетка как нечто вертикальное, разъединяющее, может показаться диурнальным символом, ее хаотическая структура (this thing was not arranged on any laws), создающая однородный фон для возникновения образа женщины, заставляет склониться к мысли о ноктюрнальных чертах.
В последней фазе (ноктюрнальной-мистической) элементы оппозиции «героиня :: обои» нивелируются окончательно. Во-первых, героиня пытается освободить женщину и ночью вместе с ней «расшатать» решетку (оборвать обои): I pulled and she shook, I shook and she pulled, and before morning we had peeled off yards of that paper. Но задание усложняется — то несколько женщин за решеткой, то всего одна (Sometimes I think there are a great many women behind, and sometimes only one). Во-вторых, она перестает осознавать, правда ли хочет ее/их освободить (If that woman does get out... I can tie her!), поскольку женщины проникают в физическую реальность героини и ползают по саду: I think that woman gets out in the daytime! ...I know, for she is always creeping, and most women do not creep by daylight. ...I don't like to LOOK out of the windows even — there are so many of those creeping women, and they creep so fast. В-третьих, героиня начинает считать себя одной из них, чем целиком снимает противопоставление: I've got out at last… And I've pulled off most of the paper, so you can't put me back! Она выбралась, оборвав большую часть обоев, и обратно ее не посадишь!
Ключевые архетипические структуры диурнальной фазы — символы мужа как опоры и фантазии как болезни. Опора помогает противостоять болезни. Ноктюрнальная драматическая фаза представлена символом заточенной женщины, то появляющейся, то исчезающей за хаотическим узором обоев. Героиня то боится ее, то спасает (то опирается на рассудительность мужа, то дает волю воображению). Мистическая фаза связана с обрушением решетки (мир воображения (женщина/женщины) проникает в физический мир).
Синхронический траэкт манифестирует каждую фазу посредством определенных языковых сигналов (грамматических особенностей, риторических фигур). Смена сигналов обозначает фазовый переход. Например, диурнальной фазе присущ наиболее простой синтаксис, тогда как ноктюрнальная мистическая характеризуется развернутыми периодами. Простота диурнального синтаксиса объясняется относительной ясностью мысли языковой личности и, соответственно, четкостью формулировок:
1. I will proudly declare that there is something queer about it [ancestral hall]. — Ответственно заявляю, что есть в этом доме что-то странное (сложноподчиненное предложение). Why else should it be let so cheaply? — Иначе почему его так дешево сдают (простое двучленное)? And why have stood so long untenanted. — И почему стоял так долго нежилым (простое эллиптическое; "should" и "it" опущены)? John laughs at me, but one expects that in marriage. — Джон смеется надо мной, но это нормально в браке (сложносочиненное).
Фрагмент 1 построен на прозрачной логике: если дом сдается дешево и долго стоит пустой, то можно заподозрить, что с ним не все в порядке, но не все воспринимают такие подозрения серьезно.
Ноктюрнальный синтаксис имеет вид потока сознания и характеризуется сложностью связей в середине предложений:
2. It was so quiet and empty and clean now | that I believed| I would lie down again and sleep| all I could;| and not to wake me even for dinner–| I would call| when I woke. — Было так тихо и пусто, и чисто, что я подумала: снова лягу и посплю, это все, что я могу, даже на обед меня будить не надо — позову, как проснусь. — Главная мысль этого предложения (вертикальные черты в английском варианте указывают границы клауз) приблизительно формулируется как «не беспокойте меня, пока не позову», но она сопровождается дополнительной информацией о чистоте комнаты и об отсутствии посторонних (очевидно, «обойных женщин»). Это предусматривает свободное (от разглядывания обоев) время, которое вряд ли стоит тратить на что-либо, кроме сна (даже обед не стоит усилий). Эту же мысль можно выразить двумя сложноподчиненными предложениями: It was so nice that I could sleep peacefully at last. Unless I called myself, I did not want to be woken up even for dinner. — Так хорошо, что можно, наконец, спокойно поспать. Если сама не позову, не хотелось, чтобы меня будили даже к обеду.
Риторические фигуры диурнальной фазы следующие:
1. Антитезис: а) it is a dull, yet lurid orange in some places, a sickly sulphur tint in others (цвет обоев и скучный (dull), и зловещий (варианты значения слова "lurid" также можно считать противоположными: от «мертвенно-бледного» до «огненного»), а еще оранжевый (orange) и желто-зеленый (sulphur); антитетические обозначения цветов связаны между собой в образе обоев, и их слияние могло бы служить указанием на нерасчлененную ноктюрнальность образа, если бы именно этот выразительный внутренний контраст не был свидетельством странности, чужеродности и тревожности, того, чему сопротивляется героиня); b) I'm really getting quite fond of the big room, all but that horrid paper (все в комнате вроде бы импонирует героине, кроме обоев, но если вспомнить, что в комнате — только прибитая к полу кровать (great immovable bed — it is nailed down; heavy bed which is all we found in the room), забранные решетками окна (the windows are barred) и обои, то непонятно, что ей, собственно, нравится. Значит, ей по вкусу комната, где перцептивно доминируют обои, но в то же время комната ей не по душе, и опять-таки из-за обоев. Антитезис в этом случае граничит с антилогией «обои против обоев», ноктюрнальной фигурой, сигналом потери идентичности, но здесь присутствует фундаментальная оппозиция, чего при антилогии не бывает: образ обоев как части бытового интерьера (позитивный аспект) имплицитно противопоставляется образу обоев как раздражителю, провоцирующему болезненные фантазии (негативный аспект), т. е. сознание героини борется против себя.
2. Амплификация плеонастического типа: I take phosphates or phosphites — whichever it is, and tonics, and air, and exercise, and am absolutely forbidden to "work" until I am well again. — Я делаю упражнения, принимаю фосфаты или фосфиты, чем бы это ни было, тонизирующие средства и воздушные ванны, и мне строго запрещено «работать», пока я не поправлюсь. Все перечисленные тоники, упражнения и воздушные ванны являются, по сути, упомянутыми разновидностями фосфато-фосфитов (разницы героиня не видит), т. е. ежечасным скучным лечением (I have a schedule for each hour).
Ноктюрнальная фигура драматической фазы в рассказе — гипотипоз (здесь — циклическое использование прошедшего и настоящего времен, подача событий в прошлом как настоящем (выделено) и объяснение событий ночи (прошлого) а свете дня (в настоящем)):
a. it was moonlight. The moon shines in all around just as the sun does. John was asleep and I hated to waken him, so I kept still and watched the moonlight on that undulating wallpaper till I felt creepy. — Была лунная ночь. Луна освещает все вокруг, как солнце. Джон спал и мне очень не хотелось его будить, поэтому я смотрела на лунный свет на этих волнистых обоях, пока не почувствовала, как меня словно мороз пробрал;
b. I lay there for hours trying to decide whether that front pattern and the back pattern did move together or separately. On a pattern like this, by daylight, there is a lack of sequence, a defiance of law, a constant irritant to a normal mind. — Я часами лежала, пытаясь решить, двигаются ли передний и задний узоры синхронно. Днем же в них нет никакой последовательности, а лишь открытое пренебрежение законами изображения, что раздражает нормальный ум.
Героиня силится понять ночное движение на обоях, изучая (воображая) рисунок при свете дня; день при этом определяется настоящим временем, ночь — прошедшим.
Мистическая фаза осуществляется, в частности, катахрезой (yellow smell — желтый запах) и антилогией:
She is all the time trying to climb through, but nobody could climb through that pattern — it strangles so; I think that is why it has so many heads. The pattern strangles and turns them upside down, and makes their eyes white! I think that woman gets out in the daytime. And I'll tell you why, I've seen her! I can see her out of every one of my windows. — Она (женщина) все время пытается пролезть сквозь узор, но никто бы не смог — так сильно сдавливает; думаю, поэтому в нем так много завитков. Узор душит и переворачивает их (женщин) вверх ногами, пока глаза не побелеют! Думаю, женщина выбирается днем. И я скажу вам, почему: я ее видела! Мне видно ее из всех моих окон.
В последнем фрагменте очевидным выглядит противоречие между тем, что женщине (женщинам) никак не выбраться из-за рисунка, так как завитки безжалостно душат и вертят ею (ими), и тем, что днем она (уже одна) как-то все-таки выходит, еще и оказывается снаружи комнаты, за окнами. К тому же, не заботясь, как же эта женщина оказалась в саду (если это невозможно в принципе), героиня начинает убеждать себя, что она — одна и та же, ведь большинство днем не ползает. Эта же ползает постоянно, причем прячется в кустах ежевики от проезжающих экипажей — it is the same woman, I know, for she is always creeping, and most women do not creep by daylight. I see her on that long road under the trees, and when a carriage comes she hides under the blackberry vines. Логика становится все более странной, когда героиня квалифицирует поведение ползающей особы как вполне нормальное: I don't blame her a bit. It must be humiliating to be caught creeping by daylight — я ее не виню. Днем, должно быть, ползать унизительно.
Выводы: имажинэр, динамика функционирования которого изучалась на материале рассказа «Желтые обои», характеризуется сменой фаз, маркирующих стадии того, как главная героиня сходит с ума, и отвечающих режимам диурна (здесь — фаза относительной психической нормы) и ноктюрнов драматического (фаза невроза) и мистического (фаза психоза). Переход между фазами узнается по языковым сигналам — смене синтаксических особенностей предыдущей фазы и присутствию ключевых риторических фигур. Выявленные сигналы репрезентируют языковую личность (героиню), реализованную в тексте дневника, как траэкт каждой фазы (или синхронический траэкт). Таким образом, имажинэр в заявленном материале актуализируется как три синхронических траэкта, представляющих в совокупности хронотопический траэкт, ограниченный временем и пространством рассказа.
Перспективы исследования автор видит в дальнейшем расширении типологии траэктов, а также изучении фонетических, грамматических, лексических и стилистических свойств, присущих режимам имажинэра.
Список литературы
1.Дугин А.Г. Социология воображения. М.: Академический Проект; Трикста, 2010. — 564 с.
2.Кобляков А.А. Синергетика, язык, творчество // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2002. — С. 322—333.
3.Perkins Gilman C. The Yellow Wallpaper / Charlotte Perkins Gilman [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: http://www.gutenberg.org/files/1952/1952-h/1952-h.htm
дипломов
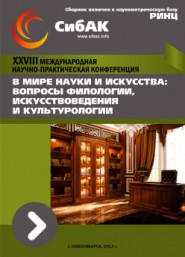

Оставить комментарий