Статья опубликована в рамках: XCIX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 20 октября 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Трудовое право и право социального обеспечения
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ОТ УСТАРЕВШЕЙ ПАРАДИГМЫ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ
REGULATING REST PERIODS IN THE DIGITAL ERA: FROM AN OUTDATED PARADIGM TO NEW CHALLENGES
Kuzmin Alexey Igorevich
Master's Student, Vyatka State University
Russia, Kirov
Redikultseva Elena Nikolaevna
Scientific Supervisor, Head of the Department of Labour and Social Security Law, Law Institute, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Vyatka State University
Russia, Kirov
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется проблема неэффективности существующей правовой базы России в сфере регулирования времени отдыха, которая носит не ситуативный, а парадигмальный характер, а также предлагаются меры по её реформированию в условиях цифровизации труда на основе метода детального теоретического анализа и сравнительного правоведения. В результате исследования выявлены ключевые аспекты несоответствия между формальными гарантиями и фактическим положением дел. В частности, это отсутствие законодательного закрепления «права на отключение», размывание границ труда и отдыха у дистанционных работников, а также проблемы «ложной самозанятости» и недостаток социальных гарантий у платформенных работников. Отдельное внимание уделено влиянию алгоритмического управления на режим труда и устаревшей правовой парадигме, которая игнорирует специфику современных форм занятости. Выводы включают предложения по реформированию законодательства, направленные на создание устойчивой и сбалансированной модели труда в цифровую эпоху, что требует переоценки целей института отдыха.
ABSTRACT
The article examines the problem of the ineffectiveness of the existing legal framework in Russia for regulating rest time, which is not situational but of a paradigmatic nature, and puts forward proposals for its reform in the context of labour digitalization, based on a detailed theoretical analysis and comparative law. The results of the study reveal key aspects of the discrepancy between formal guarantees and the actual state of affairs. Specifically, these include the absence of a legislated "right to disconnect", the blurring of boundaries between work and rest for remote employees, and the issues of "false self-employment" leading to a lack of social guarantees for gig workers. Particular attention is paid to the influence of algorithmic management on working hours and the outdated legal paradigm that ignores the specifics of modern forms of employment. The conclusions include proposals for legislative reform aimed at creating a sustainable and balanced model of labour in the digital era, which requires a re-evaluation of the goals of the institution of rest.
Ключевые слова: время отдыха; право на отключение; дистанционная работа; цифровизация труда; платформенная занятость; трудовое право.
Keywords: rest time; right to disconnect; telework; labour digitalization; platform-based employment; labour law.
Цифровая трансформация труда – одно из наиболее значимых явлений XXI века – представляет собой комплексный процесс, выходящий далеко за рамки простого внедрения технологий. Он качественно меняет структуру занятости, характер трудовых отношений и, что особенно важно, границы между профессиональной и личной жизнью. В этих условиях традиционная правовая парадигма, сформированная в индустриальную эпоху, сталкивается с нарастающим диссонансом, особенно в сфере регулирования времени отдыха. Действующее трудовое законодательство Российской Федерации продолжает базироваться на представлении о труде как о деятельности, ограниченной фиксированным рабочим местом и сменой. Это создает существенное несоответствие между формальными правовыми гарантиями и фактической реальностью трудовой деятельности, что в свою очередь приводит к эрозии фундаментального права на отдых.
Основная проблема, лежащая в основе кризиса института времени отдыха, – это концептуальный разрыв между нормативным регулированием и динамичной реальностью. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) [2], и в частности его раздел V «Время отдыха», продолжает функционировать в рамках презумпции четкой пространственно-временной локализации работы. Согласно этой устаревшей модели, прекращение трудовой функции напрямую связывается с физическим уходом работника с рабочего места. Однако в условиях дистанционной работы, где рабочие инструменты и коммуникационные каналы перманентно доступны, эта презумпция утрачивает свою актуальность. Правовые нормы, призванные обеспечить «освобождение от исполнения трудовых обязанностей», оказываются недостаточными для гарантирования достижения состояния «фактического восстановления».
Несостоятельность правовой базы проявляется в повсеместном распространении культуры «постоянной доступности». Эмпирические исследования подтверждают, что неформальные ожидания работодателей оказывают существенное давление на сотрудников вне стандартных часов. Согласно результатам опросов, более 40% офисных работников хотя бы раз в неделю получают рабочие поручения в нерабочее время, а 68% респондентов получают рабочие сообщения в мессенджерах во время отпуска [4]. Отсутствие четких правовых механизмов регулирования цифрового присутствия работника ведет к стиранию границ между трудом и отдыхом и формирует феномен «невидимой переработки», которая остается неоплачиваемой и некомпенсированной. В отсутствие законодательного барьера социальный и экономический фактор преобладает, и работники, опасаясь негативных профессиональных последствий, ощущают себя обязанными быть доступными, что превращает право на отдых из практической возможности в теоретическую конструкцию.
Наиболее остро данная проблема проявляется в правовом регулировании дистанционной работы. На первый взгляд, положения ТК РФ, в частности часть вторая статьи 312.4, исходят из презумпции автономии дистанционного работника, позволяя ему устанавливать режим своего рабочего времени по собственному усмотрению, если локальным регулированием или соглашением сторон не установлен иной порядок. Однако такая норма, по сути, перекладывает ответственность за соблюдение императивных требований о продолжительности рабочего времени и отдыха на самого работника, находящегося в экономически зависимом положении. Это создает условия для самоэксплуатации: работник, испытывая давление, может систематически работать сверх установленных норм, стирая границы между трудовой деятельностью и личным временем. Свободный график также объективно затрудняет достоверный учет фактически отработанного времени, что делает практически невозможным доказывание фактов переработки и усложняет надзор со стороны контролирующих органов.
Аналогичная проблематика обнаруживается в регулировании порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска для дистанционных работников. Часть четвертая статьи 312.4 ТК РФ устанавливает, что порядок предоставления отпуска определяется коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором, создавая особый, децентрализованный режим. Этот подход не имеет объективных оснований, связанных со спецификой удаленного труда, и поэтому вводит скрытое неравенство, поскольку для всех остальных категорий работников действует общий порядок, жестко регламентированный законодательством. Передача регулирования на локальный уровень создает значительные и неоправданные риски ухудшения положения работников, которые, находясь в заведомо неравном положении при заключении трудового договора, могут быть вынуждены согласиться на невыгодные условия предоставления отпуска.
Вызывает особый интерес, что, несмотря на наличие законодательно закрепленного права, многие дистанционные работники демонстрируют устойчивую тенденцию к накоплению неиспользованных дней отпуска или предпочтению их денежной компенсации. Проведенный автором анализ практики организации труда в ИТ-отрасли позволяет утверждать, что данный феномен не является следствием индивидуальной нерациональности, а представляет собой симптом системной дисфункции: психологическая сложность «отключения» в условиях домашнего офиса, доминирование «культуры постоянной доступности» и страх потери профессиональной ценности или упущения важных задач.
Особую актуальность в данном контексте приобретает концепция «права на отключение» (right to disconnect), предполагающая гарантированную возможность не выходить на связь в нерабочее время без негативных последствий для работника. Международная организация труда (МОТ) играет ключевую роль в глобальной легитимации этого права, подчеркивая его критическую важность для охраны здоровья работников. В Практическом руководстве по телеработе [8] МОТ определяет ключевым принципом организации удаленной работы «временной суверенитет» (time sovereignty) работника, что является концептуальной основой для права на отключение. Такое право также закреплено в законодательстве многих европейских стран [6]. В действующем российском законодательстве подобная норма прямо не закреплена, хотя ее необходимость подтверждается как международной практикой, так и растущими жалобами работников на постоянную доступность.
Проблема размывания границ между трудом и отдыхом выходит за рамки дистанционной занятости и принимает наиболее острую форму в контексте так называемой «ложной самозанятости» и платформенной экономики. Подавляющее большинство исполнителей, работающих через цифровые платформы (например, в сфере курьерской доставки, или такси), оформляются в контексте гражданско-правовых отношений, что фактически исключает их из сферы действия трудового законодательства. Эта практика, позволяющая исключить социальные обязательства, не является «недосмотром» законодателя или «регуляторным отставанием», а представляет собой стратегическую структурную конструкцию, направленную на экстернализацию затрат и рисков на отдельных работников для получения конкурентных преимуществ. В результате исполнители, чей труд по своей сути является зависимым и включенным в производственный процесс, лишаются базовых гарантий, включая нормированную продолжительность труда, оплачиваемый отпуск, междусменный отдых, выходные дни и другие социальные гарантии. Для этих категорий работников любой период отдыха напрямую ведет к потере дохода, что создает мощный экономический стимул работать без перерывов и способствует хроническому переутомлению и выгоранию.
В условиях платформенной занятости проблема усугубляется всеобъемлющим влиянием алгоритмического управления. Алгоритмы, определяющие доход, рейтинг и доступность заказов, создают мощный экономический стимул для постоянной доступности и интенсивной переработки. Работник вынужден поддерживать непрерывную активность, чтобы получать новые заказы и поддерживать высокий рейтинг, что подрывает его автономию и препятствует полноценному восстановлению. Любое «отключение» может привести к потере заказов или снижению рейтинга, делая фактическую реализацию права на отдых практически невозможной.
Отсутствие четкого правового статуса для платформенных работников, несмотря на их массовое задействование в логистике и ритейле, фактически создает параллельный правовой режим, который дублирует институты трудового права, но без предоставления полной системы гарантий. Например, принятый в июле 2025 года Федеральный закон № 289-ФЗ «О регулировании платформенной экономики» [3] не только не учел ключевых предложений профсоюзного сообщества, включая ФНПР [5], но и вместо интеграции работников платформ в систему трудового права, институционализировал их исключение из сферы трудового законодательства. Этот закон, ориентированный на гражданско-правовые отношения, не решает фундаментальной проблемы, а лишь легализует практику ухода от трудоправовых обязательств, противореча при этом конституционному принципу равенства [1].
В условиях цифровизации труда и трансформации форм занятости, институт времени отдыха, закрепленный в статье 106 ТК РФ, как период освобождения от исполнения трудовых обязанностей, становится недостаточным. Он не обеспечивает гарантии реальной психологической и когнитивной разгрузки, что нивелирует основную цель отдыха – полноценное восстановление функциональных ресурсов. Совокупность выявленных факторов свидетельствует о существенной ограниченности существующей правовой базы и нарастающем разрыве между закрепленными de jure гарантиями и их фактической реализацией в условиях цифровой экономики. Это актуализирует необходимость концептуальной переоценки целей института отдыха – от простого установления рамок «нерабочего времени» к активному обеспечению условий для «восстановительного времени», гарантирующего достижение состояния физического и психоэмоционального восстановления.
Для адекватного регулирования времени отдыха в новых условиях необходим комплексный подход, включающий законодательные изменения и организационные меры. Прежде всего, требуется законодательное закрепление права дистанционного работника на недоступность в период времени отдыха, а также обязанности работодателя не направлять поручения вне рамок рабочего времени, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Это обеспечит восстановление баланса между трудом и личной жизнью.
Представляется также обоснованным отменить часть четвертую статьи 312.4ТК РФ и распространить на дистанционных работников общий порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленный в статьях 123 и 124 ТК РФ, что устранит неоправданную нормативную избыточность и восстановит принцип равенства прав.
В отношении платформенной занятости необходим принципиально новый подход, предполагающий пересмотр сложившейся правовой модели. Логичным представляется не конструировать отдельный гражданско-правовой закон, а включить в ТК РФ новую главу об особенностях регулирования труда платформенных работников. Ключевым элементом такого регулирования должно стать законодательное закрепление опровержимой презумпции трудовых отношений: при наличии признаков подчинения платформе (контроль над процессом работы, установление тарифов, зависимость от рейтингов) отношения должны считаться трудовыми по умолчанию. Это принципиально меняет логику регулирования, поскольку переносит бремя доказательства с работника на платформу. Такой подход эффективно распространяет действие трудового законодательства на миллионы работников и предоставляет им доступ к социальным гарантиям, включая право на отдых.
Кроме того, для обеспечения эффективности законодательных гарантий, необходимо, чтобы работодатели разработали и внедрили локальные нормативные акты, регламентирующие границы рабочего времени и цифровых коммуникаций. Их положения должны включать протоколы для экстренных ситуаций и рекомендации по эффективному «отключению» в отпуске. В качестве дополнительных рекомендаций также можно отметить развитие корпоративной культуры, в которой соблюдение границ рабочего времени и полноценный отдых становятся нормой, а руководство демонстрирует это своим личным примером. Эмпирические исследования показывают, что поддержка руководства играет ключевую роль в восстановлении сотрудников и снижении стресса, особенно в условиях дистанционной работы [7].
Подводя итоги исследования, следует констатировать, что процесс цифровой трансформации, открывая новые возможности, одновременно формирует значительные риски для благополучия работников (психологические, экономические, социальные). Действующая модель, основанная на пространственно-временной локализации работы, не учитывает специфику дистанционной и платформенной занятости, что приводит к стиранию границ между трудом и личной жизнью. В этих условиях традиционный институт отдыха не обеспечивает полноценного восстановления и требует концептуальной переоценки. Для дистанционных работников необходимо закрепить право на недоступность и устранить искусственное неравенство в предоставлении отпусков. В отношении платформенной занятости ключевым является введение презумпции трудовых отношений при наличии признаков подчинения цифровой платформе. Реализация этих мер позволит адаптировать трудовое законодательство к вызовам цифровой экономики и восстановить баланс между требованиями занятости и фундаментальными трудовыми правами. От того, насколько быстро будут адаптированы правовые механизмы, зависит возможность предотвращения системного кризиса трудовых гарантий в ближайшие годы.
Список литературы:
- Конституция Российской Федерации: принята всенарод. голосованием 12.12.1993 : с учётом поправок, внесен. Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ. – Текст : электронный // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 11. – Ст. 1416. – Режим доступа: справ.-правов. система «Гарант».
- Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : ред. от 31.07.2025. – Текст : электронный // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 01.09.2025).
- О регулировании платформенной экономики : Федер. закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ (не вступил в силу). – Текст : электронный // Собрание законодательства РФ. – 2025. – № 31. – Ст. 4643. – Режим доступа: справ.-правов. система «Гарант».
- Большинство россиян продолжают получать рабочие сообщения в отпуске : [исследование сервиса «Контур.Толк»] // Известия : газета. – 2025. – 28 июля. – URL: https://iz.ru/1926649/2025-07-28/konfliktov-s-bossom-iz-za-nezelania-rabotat-v-otpuske-boatsa-35-rossian (дата обращения: 01.09.2025). – Текст : электронный.
- Регулирование платформенной занятости должно быть закреплено в Трудовом кодексе / Федерация независимых профсоюзов России. – Текст : электронный. – Москва: ФНПР, 2025. – URL: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/fnpr-regulirovanie-platformennoy-zanyatosti-dolzhno-byt-zakrepleno-v-trudovom-kodekse.html (дата обращения: 01.09.2025).
- Eurofound. Right to disconnect: Exploring company practices / Eurofound. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. – 56 p. – URL: https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/report/2021/right-to-disconnect-exploring-company-practices (accessed: 01.09.2025). – Text : electronic.
- Sonnentag, S. Leader support for recovery: A multi‐level approach to employee psychological detachment from work / S. Sonnentag, R. Kark, L. Venz. – Journal of Occupational and Organizational Psychology. – 2024. – Vol. 97. – № 4. – P. 1762–1788. – URL: https://www.researchgate.net/publication/383184964 _Leader_support _for_recovery (accessed: 01.09.2025). – Text: electronic.
- Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: A practical guide. – Geneva : International Labour Office, 2020. – 41 p. – URL: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/instructionalmaterial/wcms_751232.pdf (accessed: 01.09.2025). – ISBN 978-9-2203-2405-9. – Text : electronic.
дипломов
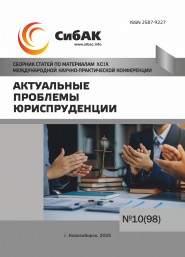

Оставить комментарий