Статья опубликована в рамках: CXLIX Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 22 мая 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ИСТОРИЯ АСТРЕНТА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И РЕЦЕПЦИЯ ИНСТИТУТА
HISTORY OF THE ASTRENTE: ORIGIN, DEVELOPMENT AND RECEPTION OF THE INSTITUTION
Leonid Shmatkov
master student, civil procedure department, Saint Petersburg State University
Russia, Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ
Институт астрента может послужить эффективным средством борьбы с низким уровнем исполнения судебных решений. Корректное понимание онтологии данного института может быть предопределено изучением его истории возникновения, а именно оснований, конкретных исторических условий и причин, приведших к формированию данного правового института.
ABSTRACT
The institution of astrente can serve as an effective means of combating the low level of enforcement of court judgements. The correct understanding of the ontology of this institution can be predetermined by studying its history of origin, namely the grounds, specific historical conditions and reasons that led to the formation of this legal institution.
Ключевые слова: гражданский процесс, судоустройство, исполнение судебных решений, астрент, судебная неустойка, штраф, сравнительный анализ.
Keywords: civil procedure, judiciary, enforcement of judgments, astreinte, judicial forfeit, fine, comparative analysis.
Правильное определение онтологии любого правового института возможно в том числе и в первую очередь посредством установления истории его происхождения; только опираясь на знания о конкретно-исторических условиях, причинах и поводах, вызвавших возникновение того или иного института права, возможно понять его подлинный смысл [5, с. 424]. Институт астрента изначально появился во Франции в XIX веке, где был выработан судебной практикой в стремлении восполнить пробел в части отсутствия каких-либо положений закона, предусматривающих возможность присуждения денежных санкций, побуждавших бы просрочившего должника к исполнению судебного решения [10, с. 205-210]. Как отмечается в зарубежной литературе, самые ранние известные примеры применения подобного института датируются 1809 и 1811 гг., хотя и предполагается, что отправная точка зарождения института своими корнями уходит намного глубже в историю французского права [7, с. 71-74].
В качестве правового основания применения созданного ими института органы правосудия стали использовать действовавшие нормы о гражданско-правовых убытках. Таким образом, первоначальная концепция астрента строилась именно на идее возмещения убытков, причиненных неисполнением материально-правового обязательства, наличие которого устанавливалось судом [9, с. 242]. Однако подобное восприятие астрента в качестве института возмещения убытков во многом нивелировало его свойство принудительной силы, поскольку ответчик в такой ситуации заранее понимал, что размер астрента ни при каких обстоятельствах не может превысить размер фактической задолженности. Ситуация изменилась с принятием в 1959 г. решения Кассационного суда Франции по иску к электрической компании собственника земельного участка, соседнего с ней. Рассматривая довод ответчика о том, что сумма начисленного астрента за время просрочки исполнения судебного решения превысила размер реально нанесенного истцу ущерба, Кассационный суд указал, что астрент «служит мерой принуждения, не имеющей ничего общего с возмещением убытков… [и является] средством заставить (ответчика) исполнить судебное решение» [10, с. 209]. Иными словами, в решении по данному делу Кассационный суд отринул ранее общепринятую идею о компенсационном характере астрента и подчеркнул его публичную штрафную природу in terrorem, т. е. состоящую также в устрашении ответчика.
Французская судебная практика на основании вышеуказанной позиции высшей судебной инстанции государства смогла выработать действенный механизм принуждения должника к исполнению судебного решения в пользу взыскателя. Однако оборотная сторона такого подхода состояла в усилении критики сложившейся судебной практики в условиях отсутствия специальной нормы, позволяющей применять астрент: если ранее доктрина указывала только на превышение рамок участия судов в реформировании права, то с этого момента также указывалось, что суды фактически накладывают на участника процесса наказание, не предусмотренное законом [6, с. 330]. Долгое время критикуемая санкция продолжила применяться французскими судами без какого-либо нормативного обоснования, и только лишь в 1972 г. во французском ГПК появилась норма ст. 491 об астренте, которая указывала, что астрент назначается судом по собственной инициативе, а его размер определяется по собственному усмотрению суда, но данная норма не закрепляла легальную дефиницию института [8, с. 41]. Аналогичная юридическая техника прослеживается в принятых в развитие гражданско-процессуального кодекса Законе от 9 июля 1991 г. и Декрете от 31 июля 1992 г., которые реформировали нормы об исполнительном производстве, включив в их содержание институт астрента [4, с. 144].
Происхождение и развитие института астрента во французском правопорядке как денежной санкции во многом предопределили тот факт, что денежные суммы перечисляются именно в пользу кредитора по материально-правовому обязательству, которое установлено в ходе судебного разбирательства. Однако такое решение отнюдь не было бесспорным на момент подготовки и принятия изменений во французский гражданско-процессуальный кодекс. Инициаторы закона о внесении изменений в процессуальный кодекс изначально предусматривали разделение денежных средств, полученных в результате присуждения астрента, поровну между кредитором и государственной казной, однако такое предложение встретило сопротивление со стороны Сената Франции, который стремился сохранить традиционное распределение в пользу стороны процесса [8, с. 43]. Кроме того, в 1989 г. Сенату пришлось рассмотреть проект закона № 888, который предусматривал, что судьям следует отчислять часть полученных от выплаты астрента денежных средств в пользу Национального социального фонда государства, но и в этот раз верхняя палата французского парламента отклонила подобную законодательную инициативу, руководствуясь теми же соображениями о необходимости сохранения правовой традиции [8, с. 43]. Безусловно, поступление штрафов в распоряжение процессуальной стороны отвечает представлениям об астренте в большей степени как о частноправовом институте, нежели о публично-правовом, и в этом смысле возникает определенный диссонанс с принятым представлением о публичной штрафной природе астрента.
Идея астрента стала постепенно восприниматься и другими странами. В первую очередь, рецепцию рассматриваемого института проводили западные страны (например, Нидерланды, Бельгия, Италия, Португалия и мн. др.), причем отдельные правопорядки старались имплементировать астрент с учетом особенностей собственной правовой системы. Независимо от различий законодательного регулирования, во многом носящих «косметический» характер, основополагающие представления об астренте остались неизменными; в частности, ни в одной правовой системе западных стран не ставится под сомнение публичный штрафной характер астрента [3, с. 375-377]. Стоит отметить, что и в отечественном правопорядке ранее рассматривалась возможность рецепции астрента на предмет ее целесообразности. В частности, известный советский цивилист М. М. Агарков еще в 1940 г. писал, что «применение astreinte представляет собой весьма действительное средство сломить упорство должника, не желающего выполнить обязательство» [1, с. 241].
К вопросу о необходимости установления в отечественном правопорядке такого инструмента, который стимулировал бы сторону к исполнению судебных решений, российское юридическое сообщество стало возвращаться спустя более чем полвека. В частности, Конституционный Суд РФ в постановлении от 25 января 2001 г. № 1-П отмечал, что неправомерную задержку исполнения судебного решения следует рассматривать как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки, что предполагает необходимость справедливой компенсации лицу, которому причинен вред нарушением этого права. В следующем году Европейский суд по правам человека, рассматривая дело «Бурдов против России», фактически признал исполнение судебного решения в качестве неотъемлемой части всего судебного разбирательства: как указал Европейский суд, п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека, детально описывая процессуальные гарантии сторон на справедливое, публичное и проводимое в разумный срок разбирательство, не может не предусматривать защиты процесса исполнения судебных решений.
Указанные обстоятельства в конечном итоге привели к внедрению астрента в российский правопорядок. Как и во Франции, в российском праве конструкция астрента вначале появилась в судебной практике, и лишь спустя некоторое время – в тексте закона. Так, данный институт впервые был использован в отечественной судебной практике в апреле 2014 г., когда Высший Арбитражный Суд РФ в постановлении Пленума от 4 апреля 2014 г. № 22 указал, что в целях стимулирования исполнения судебного решения суд может обязать ответчика уплачивать денежную сумму за каждый день исполнения судебного решения. В последующем приведенные положения Пленума были восприняты федеральным законодателем, который в 2015 г. Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ внес новую ст. 308.3 в текст Гражданского кодекса РФ, тем самым закрепив право кредитора на получение денежных сумм на случай неисполнения судебного акта о присуждении к исполнению обязательства в натуре. Наконец, вместо Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснения касательно астрента были приведены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», где астрент был поименован как «судебная неустойка». Таким образом, изначально астрент стал рассматриваться российской практикой именно с точки зрения материального права в качестве т. н. «судебной неустойки», что противоречит общепризнанным мировым представлениям о правовом содержании этого института.
Следующим шагом в развитии российского астрента стало принятие в августе 2018 г. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ, которым были внесены изменения в ст. 206 ГПК РФ и 174 АПК РФ, установившие, что суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на тех же основаниях, что были предусмотрены диспозицией ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ. Как ранее подчеркивал Верховный Суд РФ в п. 30 Постановления от 24.03.2016 № 7, судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, следовательно, Верховный Суд РФ ограничил сферу применения астрента гражданско-правовыми отношениями. С учетом того, что положения ГПК РФ универсальны и применяются не только к гражданским, но и к трудовым, семейным и многим другим спорам, встал вопрос о соотношении положений ст. 206 ГПК РФ и 308.3 ГК РФ в части того, может ли астрент применяться к указанным категориям споров. В связи с этим в доктрине отмечалось, что «обозначенные нормы [процессуального кодекса] являются отражением статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и в систему российского права не привносят ничего нового» [2, с. 120].
С другой стороны, можно привести аргументы и в пользу противоположной позиции о том, что положения процессуального законодательства об астренте являются самостоятельными, а не служебными по отношению к материальному законодательству, и отражают собственно процессуальный институт. Так, буквальное лексическое толкование выражения «по требованию истца», содержащееся в ч. 3 ст. 206 ГПК РФ, позволяет признать право заявления астрента за всеми истцами по всем категориям дел, а не только за истцами по гражданско-правовым спорам. Кроме того, регулирующие назначение астрента положения не могут признаваться исключительно гражданско-правовыми, в противном случае наличествовало бы ничем не оправданное копирование норм материального права в текст процессуального законодательства, что ставило бы под сомнение профессионализм федерального законодателя.
Более того, проблематика определения онтологии астрента усугубляется тем, что в силу ч. 1 ст. 197 АПК РФ дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий или бездействия государственных, муниципальных и иных органов, их должностных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам искового производства, предусмотренным арбитражным процессуальным кодексом. Систематическое толкование положения ч. 1 ст. 197 АПК РФ в совокупности с вышеуказанной логикой рассуждения свидетельствует о возможности присуждения по требованию истца денежной суммы на случай неисполнения судебного акта, носящего административно-правовой характер. Вопреки ранее рассмотренным разъяснениям Верховного Суда РФ, изложенным в Постановлении от 24.03.2016 № 7, практика самого Суда пошла по иному пути, признавая возможность присуждения астрента на случай неисполнения судебного акта, признавшего незаконным акт публичного органа и возложившим на этот орган обязанность совершить определенные действия.
Таким образом, можно привести достаточное количество аргументов в пользу той или иной стороны о правовой природе астрента в современном российском праве. На данный момент ясно лишь одно: отражение института астрента в процессуальном законодательстве не только не смогло разрешить давнюю научную дискуссию о том, имеет ли данный институт сугубо процессуальную или же все-таки материальную природу, но лишь сильнее обострило данную дискуссию. Представляется, что разрешение этого вопроса способно предопределить вектор будущего развития астрента в российском праве и позволит дать корректную оценку возможности его использования в качестве процессуального элемента стимулирования исполнения стороной судебных решений.
Список литературы:
- Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. 241 с.;
- Грибов Н.Д. Актуальные вопросы взыскания судебной неустойки (астрента) в гражданском судопроизводстве // Проблемы судопроизводства в суде первой инстанции по гражданским, арбитражным и административным делам. 2019. С. 119-123;
- Ерпылева Н.Ю., Клевченкова М.Н. Унификация норм о международной судебной юрисдикции в международном процессуальном праве. Международное право и международные организации. 2013. № 3. С. 343-378;
- Кузнецов Е.Н. Исполнительное производство Франции. СПб: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. 277 с.;
- Поляков А.В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2017. 630 с.;
- Morandiere L.J. Droit civil. Paris: Dalloz, 1965. P. 330.
- Planiol M. Traite elementaire de droit civil, conforme au programme officiel des facultes de droit. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1917. P. 71-74.
- Remien O. Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld. Tubingen: Mohr Siebrek Ek, 1992. P. 41;
- Savatier, R. La théorie des obligations: en droit privé économique. Paris: Dalloz. 1979 P. 242;
- Zweigerd K., Kotz H. Einfuhrung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. Tubingen: Mohr Siebrek Ek, 1996. P. 205-210.
дипломов
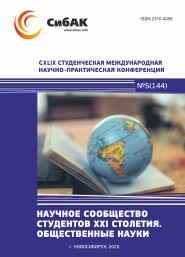

Оставить комментарий