Статья опубликована в рамках: CCXVI Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 14 июля 2025 г.)
Наука: Философия
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
КРИТИКА МЕХАНИЦИЗМА С ПОЗИЦИИ РУССКОГО НЕОКАНТИАНСТВА
CRITICISM OF MECHANICISM FROM THE PERSPECTIVE OF RUSSIAN NEO-KANTIANISM
Diana Kalyuzhnaya
Student, Faculty of Humanities and Social Sciences, Peoples' Friendship University of Russia» named after Patrice Lumumba,
Russia, Moscow,
АННОТАЦИЯ
Рассмотрение и анализ особенностей развития философии науки в России позволяет расширить эпистемологический инструментарий методологии науки в целом. Учитывая особенности кумулятивного роста научного знания, обращение к имеющемуся опыту и решениям, оправданным с позиции истории, позволяет найти новые стратегии осмысления ценности науки. В истории русской философии, в согласованности с переходом от классической к неклассической науке, были оформлены критические труды, которые заслуживают актуализации и нового внимания специалистов. В числе наиболее ярких традиций отечественной философии, обращенных к проблемам науки, выделяется традиция не только позитивизма, но и русского неокантианства.
ABSTRACT
The consideration and analysis of the features of the development of philosophy of science in Russia allows us to expand the epistemological toolkit of the methodology of science in general. Given the peculiarities of the cumulative growth of scientific knowledge, the appeal to the existing experience and solutions justified from the perspective of history allows us to find new strategies for understanding the value of science. In the history of Russian philosophy, in accordance with the transition from classical to non-classical science, critical works were developed that deserve to be updated and given new attention by specialists. Among the most prominent traditions of Russian philosophy that address the problems of science, there is not only the tradition of positivism, but also the tradition of Russian neo-Kantianism.
Ключевые слова: философия науки история философии, русское неокантианство, механицизм.
Keywords: philosophy of science, history of philosophy, Russian neo-Kantianism, mechanism.
Введение
Критика механицизма обозначает переход от классических принципов науки к новой рациональности и неклассическим подходам, в том числе к принципам релятивисткой физики и квантовой механики. Одним из ключевых критериев становится отказ от принципа абсолютности скоростей и пространства, господствующих в науке со времен механики Г. Галилея и аналитической геометрии Р. Декарта. С конца XIX века в философии уже появились системные труды, где под сомнение ставились не только представления о мире как картезианском «отлаженном механизме», но и позиция детерминизма. Не исключением стали и труды российских мыслителей, в частности в работе А.И. Введенского (1856-1925) «Опыт построения теории материи на принципах критической философии» (1888), обозначались противоречия и чрезмерная метафизичность господствующих представлений в естествознании. Значимость рассмотрения вопроса о критике механицизма и детерминизма в исторической перспективе, обусловлена раскрытием философии науки, ее исходных предпосылок и эпистемологической функции. В данном контексте актуализация трудов российских мыслителей позволяет обогатить отечественную историю философии и науки, а также продемонстрировать включенность русской гуманитарной мысли в мировые тенденции философии.
Цель рассмотрения критики механизма в традиции русского неокантианства – показать актуальность наследия российских мыслителей для развития категориально-терминологического аппарата философии науки. Ключевой задачей выделяется описание предпосылок и раскрытие следствий критики механицизма в трудах А.И. Введенского и русских неокантианцев для методологии последующей истории философии науки в России. В качестве основных методов выбраны историко-философский анализ, структурно-функциональный и аналитический исследовательские подходы.
Критика механицизма в традиции русского неокантианства
Исходным основанием для критического переосмысления в русском неокантианстве накопленного в науке исследовательского опыта и методологической базы становится критический подход И. Канта. Кроме того, кенигсбергский философ акцентировал внимание на полезности и ценности «наук в собственном смысле слова», то есть физики и математики. Он предполагал, что философия может достичь такой же строгости и значимости как «небесная механика» И. Ньютона, прикладные исследования Д. Юма и новые достижения К. Гаусса в математике. Именно критицизм кантовской системы трансцендентального идеализма получил распространение в среде русских мыслителей и ученых конца XIX – первой трети XX века. Одним из наиболее ярких философов, использующих критический метод, был профессор А.И. Введенский. Его идеи поддерживали Г.И. Челпанов, И.И. Лапшин, А.С. Лаппо-Данилевский, а также положительно отзывались В.Э. Сеземан и А.Ф. Лосев. При описании истоков критической философии в России, Н.О. Лосский, прот. В. Зеньковский и Б.В. Яковенко однозначно указывали на А.И. Введенского и его влияние на отечественных философов, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Хотя про влияние и творчество русского неокантианца достаточно много написано (в том числе в статьях А.А. Ермичёва, Н.А. Дмитриевой, В.Н. Белова, И.И. Евлампиева и многих других) [1, 6, 7], вопрос о критике классической науки остался слабо представленным в научных дискуссиях. В особенности значимым является начало объективной критики механицизма в физике и строгого детерминизма в химии, обозначенной в трудах «Опыт построения теории материи на принципах критической философии» и «Психология без всякой метафизики».
Первым положением критики выступает принцип аналогии, который приписывается А.И. Введенским последователям позитивизма О. Конта и Дж. С. Милля, а также детерминистам декартовской модели. О противоречивости выводов по принципу аналогии и метода экстраполяции написал известных философ и физик второй половины XX века М. Бунге в своем не менее известном труде «Философия физики»: «Аналогия, таким образом, вещь обоюдоострая. С одной стороны, она способствует исследованию неизвестного, вдохновляя нас экстраполировать предшествующее знание на новые области. С другой стороны, если мир многообразен, аналогия должна рано или поздно обнаружить свою ограниченность, так как радикально новое по самой сути есть то, что не может быть полностью объяснено с помощью знакомых и привычных терминов» [2, с. 145].
По мнению А.И. Введенского, принципы механического движения и закономерности небесной механики обобщаются до статуса всеобщих и универсальных истин, хотя и у И. Ньютона и ранее у Г. Галилея были ограничивающие условия. Русский мыслитель, объективно указывая, что классическая механика существует как непротиворечивая «математика» движения тел только в «инерциальных системах отсчета» и не обусловлена исчерпывающими опытами. Как следствие, в его труде «Опыт построения материи на принципах критической философии» последовательно подвергается критике каждое из известных следствий механистической картины мира. К ним относятся принцип детерминизма в трактовке П.-С. Лапласа; принципа динамических сил; принцип инерции; теория вихрей и самообразования вещества; равенство энергий во всех твердых телах, а также раздельность электрических и магнитных явлений. Далее философ выводит противоречия и отсутствие релевантности в использовании терминов непроницаемости тел, энергии и самое значимое – «чрезмерную неопределенность» от Декарта «до наших дней» в употреблении понятия материи [4, с. 99; 100]. Отдельно о примере «неопределенности» использования понятия материи в противоположность терминам масса и вещество, будет написано в дополнениях к первому изданию труда «Логика как часть теории познания». Раскрывая ключевые тезисы механицистов, А.И. Введенский выявляет отсутствие экспериментального подтверждения и сознательное ограничение в интерпретации фактов эмпирических исследований, в частности у Ж.-Л. Лессажа (1724-1803) и У. Томсона (1824-1907) [4, c. 279-281], А. Секки (1818-1878) и Л. Пуансо (1777-1859). Однако в отношении трактатов итальянского священника и астронома (Анджея Секки), А.И. Введенский указывает о значительном вкладе в понимании существования и движения «небесных тел», а также в объективное изучение магнетизма как естественного природного явления, присущего всем твердым телам.
Отдельно критике подвергается позиция Э. Маха, который негативно описывая атомарную теорию, игнорирует достижения в смежных отраслях знания. Отсюда выводится второе критическое замечание – игнорирование или незнание достижений в смежных отраслях деятельности, что не позволяет преодолеть влияние авторитетов или открыть новые факты исходя из синтеза знаний и исследований. Чрезмерное доверие к авторитетам, по мнению А.И. Введенского, не позволили П.-С. Лапласу преодолеть строгий детерминизм в области изучения строения вещества. В свою очередь, Э. Мах был чрезмерно уверен в обоснованности теории эфира и положениях механицизма, так как подобная точка зрения была наиболее распространенной вплоть до оформления релятивисткой модели физики.
К третьему критическому положению можно отнести ошибку переноса вывода. При описании теории непроницаемости вещества [4, с. 194-212], А.И. Введенский обозначает ряд исследований, где на едином факте исследования делается вывод о строении иных объектов (в том числе у А. Ланге и представителей Венской школы). С позиции русского неокантианца, для объективности результатов эмпирической проверки, каждая группа явлений должна быть описана и только после этого проведено сравнение с целью выявления общих и различающихся признаков, качеств и свойств.
К четвертому аргументу против механистической картины мира относится неясность и противоречивость теории эфира как субстанции делающей возможным взаимодействия тел на расстоянии (в том числе принципы динамических сил, а также взаимного притяжения и отталкивания). А.И. Введенский пишет: «Механическая теория, выводящая все из энергии, передаваемой толчком, и сама не в состоянии исполнить предъявляемых ей требований: о силе толчков мы не можем составить себе помимо возбуждаемых ими движений никакого представления (…)» [4, с. 216]. То есть, причина первопричины в теории эфира не объясняется и отсылает к неприродным явлениям. Здесь русский философ делает имплицитную отсылку к началу своей работы, где критикует декартовские и близкие к ним представления. Причина негативной критики попыток Р. Декарта выйти за границы строгой математики в область натурфилософии выражена в недостаточной аргументации картезианской модели мира. Стоит согласиться, что когда в декартовской космологии возникали вопросы, на которые невозможно непротиворечиво ответить из системы субстанционального дуализма, Р. Декарт оперировал аргументом о «сверхприродном» происхождении явлений (например, первое движение порождается Богом, или существует неразрывность двух субстанций благодаря наличию Демиурга). Примечательно, что в сноске к своим критическим замечаниям русский философов ссылается на известного математика Л. Эйлера, который отрицал «действия на расстоянии» твердых тел. Далее, для подтверждения неполноты теории эфира и действия динамических сил, приводится критика Д. Гербарта и А. Ланге [4, с. 213, 226]. Хотя их аргументы и не устраивают русского философа, но позиции описаны достаточно детально для выявления противоречивости теорий построения материи на принципах дуализма и механического действия.
Хотя сам А.И. Введенский был человеком религиозным, но он не смешивал область веры с наукой. Методология в точных формах знания должна быть построена на имеющихся фактах и полноте аргументации. Выводы и результаты должны отсылать не к мнению авторитетов или общеизвестным положениям, а к доказанности и проверяемости. Ключевыми критериями достоверности и объективности, вслед за И. Кантом, выделены всеобщность и необходимость исполнения закона (в данном случае предписанного разумом закона природных явлений). Отдельно методологии научного, социального и обыденного познания, в отличие от акта веры, посвящены отдельные главы работы «Логика как часть теории познания» [3]. Более подробно об особенностях демаркации форм «знания», «постижения» и «уверенности» описано в статьях А.В. Малинова [8] и П.А. Владимирова [6]. Ценность для нашего рассмотрения представляет положение о необходимости введение единых критериев и норм подтверждения объективности научного знания.
Обозначенные критические положения А.И. Введенского станут основой для развития критической аргументации против универсальности и всеобщности принципов механики, крайних позиций позитивизма и различных форм механицизма в социологии у ряда российских мыслителей, в том числе известного логика Г.И. Челпанова, основателя историографии А.С. Лаппо-Данилевского, педагога М.М. Рубинштейна, философов В.Э. Сеземана и А.В. Вейдемана.
Заключение
Ключевым положением критики механицизма выступает несогласованность достижений различных авторских теорий. Отсылка к авторитетам, в частности к Р. Декарту и аристотелизму, порождают устойчивые мнения, которые не подтверждаются и не проверяются исследователями. Для исключения подобных противоречий предлагается использовать критический подход в науке, то есть выдвижение цели научного поиска как достижения всеобщих и необходимых условий. Для подтверждения промежуточных этапов роста точного знания, А.И. Введенским и русскими неокантианцами в целом предлагается использовать методы логической проверки описания эмпирических данных в совокупности со строгостью использования аналитического метода. На наш взгляд, труды русского философа, написанные в промежутке с 1886 по 1922 года, во многом предвосхищают традицию отечественной философии науки и могут быть актуализированы в современных условиях.
Список литературы:
- Белов В.Н., Петров В.Б., Лебедева А.В. Обзор международной научной конференции «Герман Коген в истории русской философии» // Вестник РУДН. Серия: Философия. 2018. №4 (22). С. 499-508.
- Бунге М. Философия физики. М., 2010. 320 с.
- Введенский А.И. Логика как часть теории познания. Издание 5-ое. М., 2014. 440 с.
- Введенский А.И. Опыт построения теории материи на принципах критической философии. М., 2011. 352 с.
- Введенский А.И. Психология без всякой метафизики. Петроград, 1917. 359 с.
- Владимиров П.А. Значение критики «нового психофизиологического закона» А. И. Введенского в русской философии // Кантовский сборник. 2017. №1 (36). С. 52-65.
- Дмитриева Н.А. Русское неокантианство : «Марбург» в России. Историко-философские очерки. М., 2007. 512 с.
- Малинов А.В. Новые исследования об А.И. Введенском // Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. 2012. №1 (36). С. 67-76.
дипломов
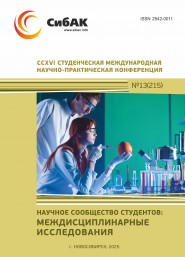

Оставить комментарий