Статья опубликована в рамках: CCXV Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 26 июня 2025 г.)
Наука: Культурология
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
САКРАЛЬНЫЙ СВЕТ: РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗОВ СОЛНЦА И ЛУНЫ В КИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ
THE SACRED LIGHT: RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF THE SUN AND MOON IMAGERY IN CHINESE WRITTEN TRADITION
Luiza Isaeva
master’s student, Department of Sinology and Asian-Pacific Studies, Kazan (Volga Region) Federal University,
Russia, Kazan
Alfiya Alikberova
scientific supervisor, candidate of Sciences in History, associate professor, Kazan (Volga Region) Federal University,
Russia, Kazan
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается богатая символика Солнца и Луны в китайской культуре, раскрывающаяся через язык, философию, религию и мифологию. Исследование демонстрирует, как образы Солнца и Луны, выходя за рамки астрономических объектов, стали носителями сложных смыслов: от метафор власти и подчинения в конфуцианстве до символов просветления и сострадания в буддизме. Особое внимание уделено взаимодействию принципов инь и ян, где Солнце ассоциируется с мужским началом, а Луна – с женским. Путем представления фрагментов из таких классических лексикографических источников, как «Шовэнь цзецзы», «Канси цзыдянь» и «Юйпянь», показано, как развитие иероглифов 日 и 月 отражало изменение культурно-мировоззренческих представлений народа. Отдельный аспект исследования посвящен роли Солнца и Луны в лексике и графическом строении иероглифов, что свидетельствует о сакральности письма как средства передачи космических и социальных истин.
ABSTRACT
The article explores the rich symbolism of the Sun and Moon in Chinese culture, as revealed through language, philosophy, religion, and mythology. The study demonstrates how these celestial bodies, transcending their astronomical nature, became carriers of profound meanings–from metaphors of power and subordination in Confucianism to symbols of enlightenment and compassion in Buddhism. Special attention is given to the interplay of yin and yang principles, where the Sun is associated with masculine energy and the Moon with feminine energy. By analyzing excerpts from classical lexicographical sources such as «Shuowen Jiezi», «Kangxi Zidian», and «Yupian», the article illustrates how the evolution of the characters 日 (rì, Sun) and 月 (Moon) reflects shifts in cultural and ideological perceptions. A separate focus is placed on the role of the Sun and Moon in the lexicon and graphic structure of Chinese characters, highlighting the sacredness of writing as a medium for conveying cosmic and social truths.
Ключевые слова: Солнце и Луна; космология; дуализм инь-ян; лингвокультурология; китайская письменность; философия.
Keywords: Sun and Moon; cosmology; yin-yang dualism; linguacultural studies; Chinese writing; philosophy.
В связи с тем, что последние годы ознаменовали заметное повышение научного интереса к духовно-символическому потенциалу языка, многосторонняя культура Поднебесной создала плодотворную и богатую почву для исследований в данной области. Иероглифическая система Китая, соединившая в себе два уникальных начала – сакральное и семиотическое, испокон веков выполняла не только базовую коммуникативную функцию. Каждый ее элемент несет в себе следы мифопоэтического мышления. Подобный подход нашел отражение и в таких фундаментальных понятиях, как Солнце и Луна: за прошедшие тысячелетия, изначально обозначавшие их иероглифы 日 и 月 трансформировались из названий небесных тел в универсальные символы, воплощающие сложные философские концепции, религиозные воззрения и даже социальные модели.
Основой китайского мировоззрения, безусловно, послужила именно концепция инь-ян. В рамках национальной философии ее воплощением был дуализм Солнца и Луны, где первое связывалось с активным, «творящим» мужским началом, а второе - с пассивным, более мягким и «восприимчивым» женским. Стоит понимать, что их роль не была жестко зафиксированной и в зависимости от контекста произведений, конкретной культурной парадигмы или исторической эпохи, один и тот же образ мог приобретать противоположные черты. Такая пластичность символики указывает на то, что китайское понимание космоса строилось не на противостоянии, а на динамическом равновесии между противоположными силами.
Неудивительно, что эта система нашла своё выражение не только в даосской космологии, но и в конфуцианском учении о государственном устройстве. Трактовка Солнца и Луны как элементов дуального порядка присутствует уже в «Ицзин», где говорится: «Солнце и Луна сияют в небесах, как злаки и травы цветут на земле» [6, с. 83]. Это утверждение указывает на универсальный принцип гармонии, в котором ни одно из светил не доминирует над другим, а вместе они обеспечивают равновесие во Вселенной. Аналогичная идея развивается в «Чжуанцзы»: полярности не исключают, а дополняют друг друга, поскольку всё в мире находится в постоянном движении и преобразовании. Наконец, подтверждение содержится и в трактате «Хуайнаньцзы»: «Солнце есть ян, Луна есть инь. Когда ян достигает высшей точки, рождается инь; когда инь достигает предела, рождается ян – таков путь природы» [5, с. 183].
В конфуцианской системе такие термины, как 太阳 и 太阴, со временем приобрели черты политических метафор. Если 太阳 символизировал постоянство, просвещенность, всевидение и великую мощь, то 太阴 становился образом внутреннего мира и чиновничества. В словаре «Юйпянь» эта идея транслируется следующим образом: «Яркое Солнце олицетворяет власть, ночное сияние – участь подчиненных» [3, с. 676]. Справедливо заметить, что указанные слова описывали иерархическую структуру общества и её соответствие космическим законам. Солнце, как источник света и тепла, стало метафорой владыки, который своим присутствием обеспечивает общественный порядок и процветание государства. В сравнениях же народа с Луной закладывалась аллюзия на его зависимое и вторичное положение в существующей системе управления: подобно тому, как свет ночного светила лишь отражал солнечный, так и люди полагались на мудрость правителя. Истинным источником легитимности оставался сам император. Пожалуй, данный подход не ограничивался лишь уровнем абстрактного философствования, но и получил развитие в государственной символике. Например, в ритуальной одежде китайского императора – особенно в мантии мяньфу, предназначенной для жертвоприношений и торжественных церемоний, – присутствовал символ Солнца. Он был одним из «девяти узоров», каждый из которых обозначал различные добродетели правителя.
Буддийские тексты также использовали символику светил, хотя и с несколько иным акцентом. В указанной традиции Солнце выступало метафорой просветления, а Луна – символом сострадания. В этом смысле они не только сохранили свои космологические функции, но и приобрели новое духовное значение, которое стало важной частью средневековой культуры.
Мифология, как один из древнейших пластов культуры, также сыграла важную роль в укреплении символики светил. Традиционными божествами, сопоставляемыми с небесными светилами, выступали Сихэ и Ваншу. Их имена фигурируют в стихах Цюй Юаня, Чусских строфах и даже в словаре «Эръя»: «Сихэ – та, что Солнце по небу ведёт, Ваншу – та, что Луне путь даёт» [7, с. 42-43]. Эти образы не только мифологические, но и культовые: они свидетельствуют о том, что поклонение светилам имело не просто ритуальное значение, но и входило в систему мировосприятия, где каждое явление природы имело свою божественную силу. Трёхлапый ворон, обитающий в Солнце, также стал одним из ключевых символов янской энергии в даосской традиции. Его изображения встречаются на бронзовой посуде и в ритуальных текстах.
При этом признаки сакрализации солярно-лунарных символов присутствовали не только в сферах мифологии и философии, но и в самой структуре языка, в графическом начертании уже не раз упомянутых иероглифов. Изначальная круглая форма 日 намекала на сам солнечный диск и его совершенность, а наличие точки посередине некоторые исследователи связывали с концентрацией энергии и исключительной «материальностью» светила [2, с. 1-2]. В противовес этому изображение 月 имело изогнутый вид, с одной стороны восходящий к фигуре полумесяца, а с другой – намекавший на изменчивую природу Луны. Такие детали способствовали формированию устойчивых ассоциаций между формой знака и его духовной нагрузкой.
Дефиниции, данные в «Шовэнь цзецзы», явно демонстрируют, что уже к эпохе Хань было сформировано восприятие Солнца как источника постоянства и Луны как символа ему противоположного – цикличного, но изменчивого. Сюй Шэнь отражает это следующим образом: «"日" – полнота бытия: солнечная энергия Ян неизбывна. "月" – недостаток: так проявляется природа Инь» [4, с. 34-35].
Подобные представления нашли отражение и в более поздних словарях, например, в «Канси цзыдянь», где в комментариях к этим иероглифам приводились цитаты из классических текстов, поэзии и философских трудов. Например, в толковании иероглифа 月 упоминались строки из «Чусских строф» (楚辞), где лунный свет символизировал бессмертие [1, с. 1253]. В других случаях использовались стихи Ли Бо, в которых Луна фигурировала как ностальгии и разлуки. Это позволяло не просто зафиксировать значение слова, но и показать его эмоциональную и культурную окраску в разных исторических пластах.
Анализ философских, религиозных и лексикографических источников позволяет сделать вывод о том, что образы Солнца и Луны в китайской письменной традиции имеют глубокое символическое значение, выходящее за рамки астрономического восприятия. Через язык реализуется не только философская концепция инь–ян, но и религиозная система, в которой светила выступают как проводники космического порядка. Солнце и Луна, как и тысячи лет назад, остаются не просто светилами на небосводе, но и мощными символами, через которые выражается вся система ценностей китайской цивилизации. Они продолжают влиять на современное восприятие времени, власти и человеческих отношений, что делает их не только историческими артефактами, но и живыми элементами культуры.
Список литературы:
- Канси цзыдянь (Словарь Канси; 康熙字典) // Бэйцзин: чжунхуа шуцзюй (Пекин: Книжная компания Чжунхуа; 北京: 中华书局). – 1982. – 4500 с.
- Люй Цзунъяо (吕宗尧). Цзягувэнь “ юэ " 、 “ жи ” дэ чжэсюэ нэйхань цзи сянгуань вэньти (Философские аспекты и связанные вопросы иероглифов “月” и "日” в гадательных надписях; 甲骨文“月"、 “日”的哲学内涵及相关问题) // Чжунго гуу цзачжи (Журнал китайских древностей; 中国古物杂志). – 2022. – 3 с.
- Сюй Сюань (徐鉉). Юйпянь цзяочжу (Аннотации к Юйпянь; 玉篇校注) // Бэйцзин: чжунхуа шуцзюй (Пекин: Книжная компания Чжунхуа; 北京: 中华书局). – 1986. – 928 с.
- Сюй Шэнь (許慎). Шовэнь Цзецзы (Объяснение простых и анализ сложных знаков; 說文解字) // Бэйцзин: чжунхуа шуцзюй (Пекин: Книжная компания Чжунхуа; 北京: 中华书局). – 1963. – 242 с.
- Хуайнаньцзы (Философы из Хуайнани) / пер. с кит., вступит. ст. и примечания Л.Е. Померанцевой. - М.: Восточная литература, 2016. – 527 с.
- «Чжоу и. Си цы шан» («“Прикреплённых словах” к “Чжоуским переменам”», «周易·系辞上») // Бэйцзин: Чжунхуа шуцзюй (Пекин: Книжная компания Чжунхуа; 北京: 中华书局). – 2009. – №33 (8). – 403 с.
- Эръя: Шитянь (Приближение к классике: Разъяснение небесных тел; 尔雅·释天) // Бэйцзин: чжунхуа шуцзюй (Пекин: Книжная компания Чжунхуа; 北京: 中华书局). – 2005. – 773 с.
дипломов
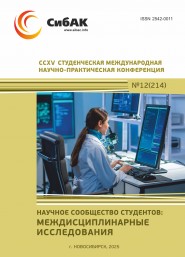

Оставить комментарий