Статья опубликована в рамках: CCVI Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 13 февраля 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ДОГОВОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
АННОТАЦИЯ
Согласно общепринятой теории гражданского права, свобода договора является одним из основополагающих принципов, обеспечивающих гибкость и адаптивность гражданских оборотов. Однако длительное время в правоприменительной практике возникали случаи, когда безграничная свобода ведет к нарушению прав и интересов третьих лиц, а также к ущербу публичным интересам. В данной статье рассматриваются основания и рамки ограничения свободы договора, а также правовые механизмы, обеспечивающие баланс между частными и общественными интересами.
Ключевые слова: свобода договора, ограничение, интересы третьих лиц, публичные интересы, гражданское право.
Интересы третьих лиц – традиционное основание для ограничения свободы договора. Говоря о защите интересов кредиторов, имеют в виду прежде всего запрет на совершение сделок, направленных к прямому ущербу последних. Такие сделки могут быть признаны недействительными, в том числе в рамках процедур несостоятельности (банкротства).
Оригинальным примером может быть ситуация, которая обсуждается применительно к праву интеллектуальной собственности. С точки зрения свободы договора контрагенты могут запретить или существенно ограничить доступ к произведению, которое имеет научную ценность. Например, может предусматриваться прямой запрет на размещение таких объектов в онлайн-библиотеках. Эти правила об осуществлении авторских прав нередко прямо приводят к ограничению доступа к научной и научно-популярной литературе, уменьшают возможности для образовательного процесса и научно-технического прогресса. При этом не стоит забывать, что право на образование гарантировано в Российской Федерации конституционными нормами.
Среди классических примеров того, как свобода договора ограничена правами третьих лиц, следует привести случай с наличием у последних преимущественных прав, например, права преимущественной покупки. Закон запрещает сделки, нарушающие такие права, однако обычно не устанавливает последствия в виде ее недействительности. К примеру, в силу правил статьи 250 ГК РФ договор купли-продажи, совершенный с нарушением прав преимущественной покупки, считается действительным, однако третье лицо, права которого нарушены, может потребовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя по такому договору. Показательно, что законодательством, регулирующим отношения в цифровой среде, уже формируются определенные правила по поводу преимущественных прав[1].
При ближайшем рассмотрении основных направлений цифровизации договорного права в них можно найти определенные противоречия с идеей ограничения свободы договора ввиду защиты интересов третьих лиц. Так, технология смарт-контракта делает исполнение договорных обязательств необратимым, а также невозможным для вмешательства третьих лиц. В этом, например, ученые видят определенное отличие технологий смарт-контракта и искусственного интеллекта. Как будто получается, что смарт-контракт вообще исключает возможность каких-либо гарантий для третьих лиц, что потенциально может нарушить законные права последних. Сказанное, разумеется, не исключает возможности защиты прав третьих лиц в ином порядке, не предполагающем связь с цифровыми технологиями (судебном порядке и др.)[2].
В любом случае применение цифровых технологий само по себе снижает допустимость третьих лиц в договорные отношения иных субъектов. Это ставит вопрос о формировании четких границ и определении конкретных ситуаций, когда третьи лица вправе заявлять свои требования в связи с договорами, в которых они сами не участвуют. Очевидно, что цифровая среда, исходя хотя бы из сущности возникающих в ней отношений, ограничивает потенциал права как всеобщего регулятора.
В этом случае возрастает роль конклюдентных действий и молчания как формы выражения воли. В цифровой среде сам факт ее использования, например, при размещении объекта авторского права, должен становиться основанием для предположения о том, что третья сторона соглашается на предоставление кому-либо своих прав и, следовательно, свобода договора между иными лицами по поводу этих прав не должна ограничиваться. В этом плане показательно решение Конституционного Суда Российской Федерации, в котором обсуждался вопрос о защите исключительных прав на программный продукт в тех случаях, когда при разработке программного обеспечения были использованы компоненты («библиотеки»), написанные другими лицами. По мнению суда, не только сама работа была законной ввиду «открытых» лицензий, но и право на защиту на этом основании должно быть сохранено[3]. Таким образом, можно сделать общий вывод: размещение информации в открытых библиотеках создает презумпцию того, что пользование объектами, находящимися в них, не нарушает права лиц, разместивших их. Разумеется, презумпция может быть опровергнута, например, из-за нарушения конституционных прав или иных законных интересов третьих лиц.
Среди оснований ограничения свободы договора в цифровой среде, пожалуй, самые неоднозначные вопросы касаются защиты публичных интересов. То, что публичные интересы – это существенное политико-правовое основание императивности ряда норм договорного права, сомнений не вызывает. Так, согласно директивам Европейского союза, об электронной коммерции допускаются определенные национальные ограничительные меры, направленные на регулирование деятельности онлайн-платформ, если таковые основаны на целях государственной политики и являются соразмерными.
Тем менее, как видно, проблема правового регулирования отношений по поводу криптовалют сводится не столько к самому факту ее незаконности, сколько к потенциальной перспективе ее употребления в явно противозаконных целях, например, для продажи наркотических средств или совершения коррупционных действий. Это вполне возможно ввиду скрытой информации о субъектах и порядке совершения трансакций. Вместе с тем имеются примеры положительного опыта в плане попытки соблюсти баланс частных и публичных интересов, к примеру, при конфискации криптовалют в связи с совершением преступлений. Для этого должны быть сформированы определенные технические предпосылки (к примеру, создан официальный криптовалютный кошелек) и обеспечена открытость таких процедур. С теоретической точки зрения остается не в полной мере ясной сама категория публичного интереса.
Во многом в результате методологического решения проблемы определения ее сущности и признаков в рамках ограничения свободы договора может быть установлено, какие отдельные сделки в цифровой среде должны быть запрещены, а какие – нет. Следует согласиться, что к таким интересам относятся интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Таким образом, ограничение свободы договора ввиду необходимости защиты публичных интересов должно соизмеряться с конституционно значимыми ценностями.
Нормы, направленные на защиту конкуренции, также в определенных объемах ограничивают свободу договора. В частности, это проявляется в правилах ГК РФ о торгах, которыми установлен особый порядок заключения договора, прежде всего в целях обеспечения равенства участников торгов. Так или иначе, к рассматриваемым отношениям применимо законодательство о защите конкуренции. При этом хозяйствующими субъектами активно используются методы не только ценовой, но и неценовой конкуренции. Во втором случае это касается, например, сбора персональных данных. Говоря о цифровых платформах, имеют в виду потенциально избыточный сбор. Гипотетически такие собранные персональные данные могут быть в дальнейшем использованы уже в конкурентной среде для целей быстрого поиска возможных потребителей и клиентов[4].
Вряд ли можно спорить с тем, что «при отсутствии полноценной конкурентной среды антимонопольные запреты, ограничивающие свободу договора, являются необходимыми механизмами обеспечения добросовестности в договорной деятельности субъектов». При этом в цифровой среде для большинства отношений (в частности, по поводу использования социальных сетей, мессенджеров, поисковых программ и пр.) отсутствует конкурентная среда, а значит, необходимы антимонопольные запреты. Формально в России в законе отсутствует определение цифрового товарного рынка, что позволяет хозяйствующим субъектам, к примеру интернет-гигантам, действовать на свое усмотрение и в своих интересах. Однако реальная возможность влияния на формирование спроса и предложения по поводу того или иного продукта должна по смыслу законодательства рассматриваться в качестве основания применения антимонопольного законодательства[5].
Факты нарушений, совершаемых в цифровой среде, все чаще стали выявляться на практике. Связаны они и с включением в соглашения сторон в цифровой среде условий, противоречащих закону. Регулярной практикой становится включение в договор с онлайн-поисковыми системами условий по цене, позволяющих получать на незаконных основаниях конкурентные преимущества. В качестве примеров можно привести дела по поводу практики сайта Booking.com. Компания навязывала контрагентам (в первую очередь отелям и иным организациям, предоставляющим услуги по проживанию) условие о паритете цен.
В связи с этим правильным представляется мнение о том, что сейчас следует не просто осудить практику злоупотреблений в цифровой среде, но и четко обозначить границы поведения, против которого антимонопольные органы должны принимать разумные меры: в случае цифровых платформ речь идет о формировании контрактных условий, которые не могут быть навязаны контрагентам и, следовательно, должны быть признаны недействительными.
С проблемой ограничения свободы договора в цифровой среде в целях защиты конкуренции тесно связан и другой вопрос: антимонопольное регулирование в сфере алгоритмов. Опуская обсуждение сущности смарт-контрактов или иных автоматически исполняемых соглашений, нельзя не признать, что большая часть юридически значимых моментов может содержаться в компьютерном коде. Например, при внесении запроса в поисковую систему некоторые результаты появляются на первой странице. Их подбор обусловлен работой самих установленных алгоритмов. Потенциально это может сказаться на выборе лицом, осуществляющим поиск, контрагента по потребительским или предпринимательским сделкам[6].
В связи с этим европейские юристы уже говорят о новой области антимонопольного регулирования – «алгоритмическом антимонопольном законодательстве». Причем формируется как судебная и административная практики, так и правовое регулирование. Практика включает в себя различные дела по поводу нарушений антимонопольного законодательства со стороны крупных онлайн-площадок. Специфика таких дел заключается в том, что судьям необходимо выяснить соотношение компьютерного алгоритма и договора в гражданско-правовом смысле, определить на этом основании возможные нарушения антимонопольного законодательства.
Из всего вышесказанного следует очевидный вывод о том, что принцип свободы договора в целом и общепризнанные механизмы его ограничения остаются эффективным и необходимым инструментом регулирования отношений в цифровой среде, даже если таковые обладают уникальными техническими особенностями (речь идет, к примеру, о смарт-контрактах или технологии блокчейн). Таким образом, нельзя поддержать тех авторов, которые не признают саму возможность правового регулирования в цифровой среде или допускают ее в существенно ограниченном виде. Также с определенным скепсисом стоит относиться к мнению, что регулирование отношений в цифровой среде может осуществляться исключительно специальным законодательством. Теоретические и практические проблемы в цифровой сфере разрешаются исходя из действия принципов гражданского права при правильном понимании их содержания. Дополнительного специального законодательства вместе с самостоятельными принципами регулирования не требуется. При таком подходе не только решаются проблемы защиты прав граждан и предпринимателей, но и не происходит нарушения системности российского права, что очень важно на современном этапе, когда риск такого нарушения объективно присутствует ввиду активного и нередко бессистемного нормотворчества, а также стремительного развития самих общественных отношений в последнее десятилетие.
Список литературы:
- Петрова, А. К. Дискуссионные подходы к принципу свободы договора / А. К. Петрова // Вестник магистратуры. – 2020. – № 1-5(100). – С. 125-127.
- Подосинов, Д. С. Императив в гражданском праве – свобода договора / Д. С. Подосинов, А. М. Дзюман, В. С. Скрипченко // Евразийский юридический журнал. – 2022. – № 9(172). – С. 177-178.
- Поротикова, О. А. Тенденция к ослаблению судебного контроля при утверждении мировых соглашений: укрепление свободы договора или ненадлежащая судебная защита гражданских прав? / О. А. Поротикова, А. И. Поротиков // Третейский суд. – 2020. – № 1/2(121/122). – С. 152-158.
- Преображенская, К. Ю. Общая характеристика принципа свободы договора в гражданском праве / К. Ю. Преображенская // Научный Лидер. – 2022. – № 35(80). – С. 36-38.
- Ровнягина, М. Н. Значение предмета гражданско-правового договора для квалификации пределов договорного регулирования / М. Н. Ровнягина // Закон. – 2022. – № 11. – С. 151-162.
дипломов
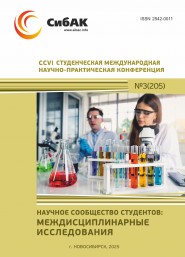

Оставить комментарий