Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 37(333)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЭМБРИОНА (ПЛОДА) В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
АННОТАЦИЯ
Проблема правового статуса эмбриона (плода) является одним из важных вопросов в области современного международного и национального права и этики. В статье проводится сравнительно-правовой анализ моделей уголовно-правовой охраны эмбриона (плода) человека в Российской Федерации и в ряде зарубежных стран. Так же стоит заметить, что до сих пор ведутся споры и дискуссии об этапе развития эмбриона, когда он наделяется правами и свободами.
Ключевые слова: эмбрион, право, жизнь, закон, уголовно-правовая охрана.
Определение момента начала жизни человека является одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем на стыке права, биоэтики, медицины и религии. Правовой статус эмбриона (плода) напрямую влияет на регулирование таких сфер, как искусственное прерывание беременности (аборт), вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО), научные исследования с использованием эмбриональных клеток и уголовно-правовая квалификация действий, приведших к его гибели. В мире не существует единого консенсуса по этому вопросу, что порождает широкий спектр правовых моделей – от консервативных, признающих полную правовую защиту с момента зачатия, до либеральных, связывающих начало жизни и правоспособности исключительно с фактом рождения.
Цель данного исследования – провести сравнительный анализ правового статуса эмбриона в Российской Федерации, в международном праве и в законодательстве зарубежных стран, выявив системные противоречия и тенденции правового регулирования.
Фундаментальной нормой, определяющей начало жизни в российском законодательстве, является статья 53 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ей, моментом рождения ребенка считается момент отделения плода от организма матери посредством родов. Данное определение имеет ключевое юридическое последствие: уголовно-правовая защита жизни, предусмотренная главой 16 Уголовного кодекса РФ («Преступления против жизни и здоровья»), начинает действовать только с этого момента. Таким образом, эмбрион и плод на всех стадиях внутриутробного развития не являются объектом таких преступлений, как убийство (ст. 105 УК РФ) или причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) [6].
Логичным следствием такого подхода является легализация искусственного прерывания беременности. Статья 56 того же Закона «Об основах охраны здоровья» разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям – до 22 недель, а по медицинским показаниям – независимо от срока беременности. Этот правовой режим подтверждает, что законодатель рассматривает плод до момента родов не как самостоятельного субъекта права, а как часть организма матери, которая в рамках, установленных законом, вправе распоряжаться своим телом и здоровьем [3].
Несмотря на отсутствие прямой защиты жизни плода, российское право предусматривает механизмы его косвенной охраны через защиту здоровья и интересов матери. Так, умышленное прерывание беременности (аборт), произведенное незаконно, может квалифицироваться по статье 123 УК РФ «Незаконное производство аборта». Однако объектом этого преступления является, прежде всего, здоровье женщины, а не жизнь плода [6].
Если действия третьих лиц, направленные против беременной женщины, причиняют вред ее здоровью и приводят к прерыванию беременности, это рассматривается как отягчающее обстоятельство. В соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 63 УК РФ, совершение преступления в отношении беременной женщины, заведомо для виновного находящейся в таком состоянии, признается обстоятельством, отягчающим наказание. Более того, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее прерывание беременности, оценивается судебно-медицинской экспертизой как вред, вызвавший последствия, квалифицируемые по признаку стойкой утраты общей трудоспособности, что влияет на квалификацию по статье 111 УК РФ [6].
На международной арене отсутствует единая унифицированная позиция по статусу эмбриона.
Декларация прав ребенка (ООН, 1959 г.). В преамбуле этого документа содержится знаменитая формулировка: «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Эта норма часто используется сторонниками защиты жизни с момента зачатия в качестве аргумента. Однако следует учитывать, что декларация является рекомендательным актом и не обладает обязательной юридической силой [2].
Американская конвенция о правах человека (1969 г.). Этот региональный документ содержит одну из самых жестких формулировок. Статья 4 «Право на жизнь» гласит: «Каждый человек имеет право на уважение его жизни. Это право защищается законом и, как правило, с момента зачатия. Никто не может быть произвольно лишен жизни». Использование термина «как правило» оставляет некоторый простор для маневра, но в целом конвенция устанавливает про-жизненную ориентацию [1].
ЕСПЧ в своей практике занял взвешенную и осторожную позицию, отказываясь признать эмбрион или плод носителем прав по смыслу Конвенции о защите прав человека и основных свобод [3].
Ключевое дело «Vo v. France» (2004 г.). Это дело является прецедентным. Гражданка Франции госпожа Во на сроке 20-21 неделя беременности попала в больницу, где из-за врачебной ошибки ей был причинен вред, приведший к гибели плода. Она обратилась в ЕСПЧ, утверждая, что государство нарушило статью 2 (право на жизнь) Конвенции, не предусмотрев уголовной ответственности врача за причинение смерти нерожденному ребенку. Французский Уголовный кодекс не квалифицировал подобные действия как убийство, поскольку плод не был признан жизнеспособным. Европейский Суд, рассматривая дело, констатировал отсутствие консенсуса среди государств-участников Совета Европы по вопросу о начале жизни и правовом статусе плода [7]. Суд указал, что вопрос о том, является ли нерожденный ребенок «лицом» по смыслу статьи 2, остается на усмотрение национальных государств. Поскольку французское законодательство не предусматривало такой защиты, а действующие правовые механизмы (гражданско-правовые) не были признаны неэффективными, Суд не усмотрел нарушения статьи 2 Конвенции [5].
Последующая практика. В более поздних решениях (например, «Evans v. The United Kingdom», 2007 г., касающемся споров об эмбрионах при ЭКО) ЕСПЧ продолжал придерживаться подхода, согласно которому государство обладает широкой свободой усмотрения в вопросах регулирования статуса эмбриона.
Либеральная модель, к которой де-факто относится и Россия, характеризуется тем, что правовая охрана жизни в полном объеме начинается с момента рождения. Аборты на ранних сроках легализованы. При этом внутри этой модели существуют свои градации.
После отмены решения «Roe v. Wade» в 2022 году Верховным Судом США, регулирование абортов было полностью делегировано на уровень штатов. Это привело к возникновению «правовой мозаики»: в таких штатах, как Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс, право на аборт защищено на уровне конституций штатов, тогда как в Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме, Южной Дакоте и других введены практически полные запреты с крайне ограниченными исключениями. Это наглядно демонстрирует, как одна страна может совмещать в себе обе крайние модели [4].
После воссоединения Германия столкнулась с конфликтом законодательств ФРГ и ГДР (где аборты были либерализованы). В итоге была выработана компромиссная модель: аборт в первом триместре не наказуем при условии прохождения женщиной специальной консультации. При этом германское гражданское законодательство (§ 1923 (2) ГГУ) защищает имущественные интересы зачатого ребенка аналогично российскому.
Консервативная (про-жизненная) модель. В ряде стран действует законодательство, прямо признающее жизнь с момента зачатия и строго ограничивающее или полностью запрещающее аборты.
В 2020 году Конституционный трибунал Польши постановил, что аборт в случае тяжелых пороков развития плода неконституционен, что фактически ужесточило и без того строгое законодательство. Теперь аборты разрешены только в случае угрозы жизни и здоровью матери или если беременность наступила в результате преступления.
Мальта является одной из немногих в Европе, где аборт полностью запрещен при любых обстоятельствах.
Страны Латинской Америки. Традиционно здесь доминировала консервативная модель, однако в последние годы наметилась тенденция к либерализации (примеры: Аргентина, Колумбия, Мексика), где были легализованы аборты на ранних сроках [4].
Смешанная и компромиссная модели. Многие страны пытаются найти баланс между правом женщины на выбор и защитой потенциальной жизни.
Наиболее распространенный подход – установление временного лимита для абортов «по желанию» (как правило, 12-14 недель), после которого аборт возможен только по строгим медицинским или социальным показаниям.
Модель информированного согласия. В некоторых странах (например, в Германии, Бельгии) обязательным условием для проведения аборта является прохождение консультации, где женщине предоставляется информация о возможностях социальной поддержки в случае сохранения беременности, о стадиях развития плода и т.д., после чего устанавливается период для размышлений [4].
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о глубокой дивергенции в определении правового статуса эмбриона, как на международной арене, так и в рамках национальных правовых систем. Российская Федерация представляет собой модель, последовательно связывающую начало правовой жизни человека с моментом его рождения. Данный подход, закрепленный в конституционных, уголовных и медицинских нормах, исключает плод из числа объектов уголовно-правовой защиты жизни, но при этом порождает внутренний правовой конфликт с нормами гражданского права, охраняющими имущественные интересы зачатого ребенка.
На международном уровне наблюдается широкий спектр подходов: от прямого признания права на жизнь с момента зачатия (Американская конвенция) до осторожного отказа от такой квалификации (практика ЕСПЧ), оставляющего этот вопрос на усмотрение национальных законодателей. Правовое поле зарубежных стран поляризовано: в то время как одни штаты США и страны ЕС движутся по пути либерализации, другие, напротив, ужесточают законодательство, занимая про-жизненную позицию.
Данная проблема не имеет и, вероятно, не сможет иметь однозначного универсального решения, поскольку она уходит корнями в сферу морали, религии и индивидуальных ценностей. Будущее правового регулирования, вероятно, будет заключаться не в поиске единого ответа, а в выработке более гибких и сбалансированных моделей, способных, насколько это возможно, учесть и защитить весь комплекс прав и интересов: и репродуктивные права женщины, и потенциальную жизнь плода, и публичный интерес государства в демографическом развитии.
Список литературы:
- Американская конвенция о правах человека от 22 ноября 1969 г. // Официальные документы Организации американских государств. — Сан-Хосе, 1969
- Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)
- Журсимбаев С. Право на жизнь: момент определения начала // Закон и время. 2013. № 1. С. 23–27.
- Огнерубов Н.А. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЭМБРИОНА // Актуальные проблемы государства и права. 2021. №18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovye-osnovy-ugolovno-pravovoy-ohrany-embriona.
- Отдельные вопросы применения статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года в практике Европейского суда по правам человека. – [Электронный документ]. – URL: http://www.sutyajnik.ru/rus/echr/ (по состоянию на 20.08.2011г.).
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
- Уголовный Кодекс Франции (Code pénal français) от 1 марта 1994 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://constitutions.ru/?p=25017
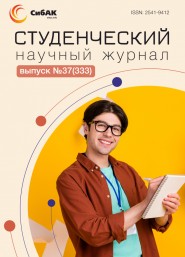

Оставить комментарий