Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 35(331)
Рубрика журнала: Культурология
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5
СОЦИАЛЬНАЯ ЛОГИКА «КРИНЖА»: ЭКОНОМИКА НЕЛОВКОСТИ В ПЛАТФОРМЕННЫХ СООБЩЕСТВАХ
SOCIAL LOGIC OF “CRINGE”: THE ECONOMY OF AWKWARDNESS IN PLATFORM COMMUNITIES
Suleimanly Ramil Talekh ogly
Student, Department of Social and Human Sciences, North-Eastern State University,
Russia, Magadan
АННОТАЦИЯ
Статья предлагает оригинальную рамку «социальной логики кринжа» как пограничного знака современной публичности. Цель — теоретически реконструировать феномен кринжа на пересечении микросоциологии взаимодействий, эстетики медиа и платформенной социологии внимания. Методологически работа носит концептуально-теоретический характер: производится аналитическое разведение категорий «стыд — смущение — кринж», типологическое моделирование разновидностей кринжа, междисциплинарный синтез данных о викарной неловкости и механизмах распространения контента на цифровых платформах. Показано, что кринж — преимущественно гетеро-направленная реакция наблюдателя, маркирующая несовпадение норм, кодов и аудиторий и выполняющая функцию символического дистанцирования. Предложена типология: эмпатический, критический/стигматизирующий, интенциональный («кринж-комедия»), экзистенциальный/«освобождающий». Введено эстетическое различение «кринж (1)» (непреднамеренная нелепость, близкая к китчу) и «кринж (2)» (осознанная уязвимость, близкая к кэмпу). Сформулирован концепт «экономики неловкости»: алгоритмическая публичность конвертирует негативное внимание в охваты и капитал вовлечённости (context collapse, peer pressure), смещая баланс от эмпатии к индустрии насмешки и усиливая стигматизирующие режимы контроля. Выдвинуты проверяемые гипотезы о роли метрик просмотров/комментариев и модераторной роли поколенческих/субкультурных кодов. Практическая значимость связана с этикой модерации, медиаобразованием и защитой «культуры искренности».
ABSTRACT
The article proposes an original framework for the “social logic of cringe” as a liminal marker of contemporary publicity. It offers a conceptual reconstruction of the phenomenon at the intersection of micro-sociology of interaction, media aesthetics, and platform studies. Methodologically, the paper is theoretical: it analytically differentiates shame–embarrassment–cringe, develops a typology of cringe, and synthesizes research on vicarious embarrassment with mechanisms of algorithmic distribution on digital platforms. Cringe is argued to be a predominantly hetero-directed observer reaction that marks mismatches of norms, codes, and audiences, functioning as symbolic distancing and retrospective re-coding when content travels across publics. The proposed typology includes: empathetic, critical/stigmatizing, intentional (“cringe comedy”), and existential/“liberatory” cringe. An aesthetic distinction is introduced between cringe (1) (unintentional awkwardness, near kitsch) and cringe (2) (conscious vulnerability, near camp). The paper advances the concept of an “economy of awkwardness”: algorithmic publicity converts negative attention into reach and engagement capital (via context collapse and peer pressure), shifting the balance from empathy toward an industry of ridicule and strengthening stigmatizing modes of public control. Testable hypotheses are outlined regarding the roles of view/comment metrics and the moderating effects of generational/subcultural codes. Practical implications concern platform governance, media literacy, and the protection of a “culture of sincerity.”
Ключевые слова: кринж; стыл; экономика внимания.
Keywords: cringe; shame; attention economy.
Введение
В современном интернет-сленге слово «кринж» стало популярным обозначением чувств неловкости и смущения, возникающих при виде чужого неуклюжего или неуместного поведения. Термин пришёл из английского cringe – буквально «съёживаться, передёргиваться» – и метко передаёт физическую реакцию: «внутреннюю дрожь смущения, неловкости и отвращения» [4], которую мы испытываем, наблюдая за чужим конфузом. Кринж-контент заполнил блогосферу: от вирусных видео, заставляющих зрителей содрогаться от «испанского стыда», до подборок cringe compilation на YouTube. Явление кринжа привлекает внимание не только интернет-пользователей, но и исследователей культуры [1].
Почему одни ситуации вызывают у нас «вторичную неловкость» (немецкий термин Fremdschämen, широко известный как «испанский стыд»), и что социально означает навешивание ярлыка «кринжовый» на чьё-то поведение? В этой статье предпринята попытка теоретически осмыслить социальную логику кринжа – как особого пограничного феномена современной культуры. Мы рассмотрим, как понятие кринжа связано с несовпадением норм и аудиторий, с расхождением статусных ожиданий и культурных кодов, и почему эффект кринжа особенно усиливается при вынесении ситуации в публичное пространство. Также будут проанализированы различия между стыдом, смущением и кринжем; введено понимание кринжа как знака, маркирующего границы приемлемого; предложена типология разновидностей кринжа. Наконец, мы затронем роль алгоритмов цифровых платформ (TikTok, YouTube,) в распространении кринж-контента и завершим размышлением о том, какие риски для культуры искренности несёт страх оказаться «кринжовым».
Новизна работы состоит в введении и развертывании оригинальной рамки «социальной логики кринжа» как пограничного знака современной публичности: кринж трактуется не как частная эмоциональная реакция, а как механизм социального разграничения и маркировки границ между «своим» и «чужим» при несовпадении норм, кодов и аудиторий. Тем самым обосновывается переход от микросоциологии неловкости к платформенной социологии внимания, где ярлык «кринж» осуществляет символическое дистанцирование и ретроспективное перекодирование событий при переносе их между аудиториями. Теоретически разведены понятия «стыд — смущение — кринж»: кринж показан как преимущественно гетеро-направленная реакция наблюдателя, отличная от интроспективного стыда и ситуативного смущения; при этом описана его амбивалентность — от эмпатического «испанского стыда» до оценочно-стигматизирующего суждения. Такое разведение позволяет связать данные о викарной неловкости и эмпатии с социологией взаимодействий и эстетикой рецепции. Предложена авторская типология кринжа (эмпатический; критический/стигматизирующий; интенциональный — «кринж-комедия»; экзистенциальный/«освобождающий»), увязанная с различными социальными функциями — от укрепления норм и разграничения статусов до катарсиса, сатирической критики и стратегий самопринятия. В рамках эстетического анализа вводится различение «кринж (1)» как непреднамеренной нелепости (вблизи китча) и «кринж (2)» как осознанной уязвимости (вблизи кэмпа), что позволяет интерпретировать кринж как практику профанации и трансгрессии. Наконец, формулируется концепт «экономики неловкости» в платформенных сообществах: показано, как алгоритмическая публичность конвертирует негативное внимание в охваты и капитал вовлечённости, смещая баланс от эмпатического компонента к индустрии насмешки и тем самым усиливая стигматизирующие режимы публичного контроля. Из этого следуют проверяемые гипотезы о роли метрик просмотра и комментариев в эскалации кринж-контента и о модераторной роли поколенческих/субкультурных кодов в его оценке.
Настоящая работа носит теоретико-концептуальный характер и ориентирована не на сбор первичных данных, а на концептуальную реконструкцию феномена «кринжа» в пересечении социологии взаимодействий, теории платформенной публичности и эстетики медиа. Методологически мы объединяем аналитическое разграничение близких категорий («стыд», «смущение», «кринж») с уточнением их регулятивных функций; типологическое моделирование разновидностей кринжа; междисциплинарный синтез вторичных исследований эмпатии/викарной неловкости и платформенных механизмов распространения контента; проблематизацию контекстуальных разрывов как условия «перекодирования» опыта в ярлык «кринж». Эти методы оправданы самой задачей статьи — теоретически осмыслить социальную логику кринжа и ее платформенные усилители, а не измерить частные эффекты на конкретной выборке.
Стыд, смущение и кринж: отличия понятий.
Понятия стыда, смущения и кринжа относятся к семье социальных эмоций, связанных с самосознанием и оценкой себя или других в свете социальных норм [10]. Тем не менее, между ними есть важные различия.
Стыд обычно описывает глубокое переживание собственного несовершенства или моральной вины; человек ощущает, что не оправдал чьих-то (или собственных) основополагающих ожиданий, и часто хочет скрыться, «провалиться сквозь землю». Стыд связан с ощущением своей негативной оценки личности – это интроспективная эмоция, сфокусированная на собственной идентичности.
Смущение (или неловкость) – более мягкое и ситуативное чувство, возникающее при нарушении социальных условностей или при нежелательном внимании со стороны окружающих [8]. Смущённый человек ощущает себя глупо в конкретной ситуации, но не обязательно считает себя «плохим» в целом; обычно смущение быстро проходит и даже может быть снято шуткой. Психологи отмечают, что смущение выполняет важную социальную функцию: сигнализирует окружающим о нашем осознании оплошности и готовности ее исправить [5]. Например, характерные проявления смущения – отворачивание взгляда, покраснение лица – служат своеобразными жестами примирения, показывающими, что нарушитель нормы не агрессивен и признаёт свою ошибку [6]. Недаром исследования показывают, что люди, склонные легко смущаться, воспринимаются более надёжными и вызывают больше доверия [5]. Иначе говоря, выраженное смущение – это сигнал: «я разделяю наши общие нормы и сожалею о случившемся» [7]. Напротив, глубокий стыд редко выполняет коммуникативную функцию, а скорее уводит человека в себя, иногда даже мешая конструктивно исправить ситуацию.
Кринж же как эмоциональное явление отличается и от стыда, и от обычного смущения. Во-первых, кринж обычно переживается не от первого лица, а за другого. Это как раз та самая «вторичная неловкость», когда мы чувствуем себя неловко, наблюдая, как норма нарушается кем-то другим. Человек, становящийся свидетелем чьего-то конфуза, может испытывать эмпатию, воображая, что почувствовал бы на месте опростоволосившегося индивида, – и буквально краснеть за него. В психологии это явление называют викарным смущением или эмпатическим смущением. Исследования подтверждают, что люди с высоким уровнем эмпатии сильнее подвержены этому чувству: «твой промах – моя боль», как образно говорится в названии одной научной работы. С нейробиологической точки зрения механизм здесь сходен с эмпатическим сопереживанием боли: наблюдатель «примеряет» на себя ситуацию опального участника события, что и рождает острое чувство неловкости за другого [7].
Однако кринж не сводится только к сочувственному стыду за ближнего. Часто в этом чувстве смешаны сразу несколько компонентов: сострадание к попавшему впросак, неловкость от нарушения социальных правил, а порой и раздражение или превосходство – мол, «как можно себя ТАК вести?». В обиходе слово «кринжовый» нередко несёт в себе иронию или осуждение. Если смущение в чистом виде обычно нежелательно и для испытывающего, и для наблюдателей, то кринж как феномен имеет двойственный характер: он может быть и неприятно-мучительным (заставляя нас буквально смотреть «сквозь пальцы» от стыда), и одновременно занимательно-смешным [7]. Например, жанр кринж-комедии построен на том, чтобы намеренно вызывать у зрителя смесь смеха и испанского стыда – вспомним сериалы вроде «Офис» или «Массовка», где герои попадают в чудовищно неловкие ситуации. Зритель содрогается (to cringe – «кривиться») и смеётся одновременно. Таким образом, кринж можно понимать шире, чем просто эмпатическое смущение: это социальная реакция наблюдателя, которая фиксирует несоответствие происходящего нашим представлениям о надлежащем – и эта реакция может варьировать от сочувствия до насмешки или отторжения.
Вторичная неловкость и эмпатия: позитивная роль «испанского стыда»
Чувство неловкости за другого – fremdschämen по-немецки, или «испанский стыд» в разговорном русском – на первый взгляд кажется чисто негативным опытом. Зачем человеку способность сгорать от стыда за поступки посторонних людей (или даже вымышленных персонажей на экране)? Психологи полагают, что это побочный продукт нашей социальной эмпатии [11]. Человек – существо коллективное; умение ставить себя на место другого и чувствовать его эмоции помогает нам учиться на чужих ошибках и поддерживать друг друга. Викарное смущение с этой точки зрения – полезная эмоция: она подсказывает нам, какое поведение считается нежелательным в группе, и предотвращает повторение подобных промахов. Переживая неловкость вместе с оплошавшим, мы как бы сигнализируем: «мы тоже признаём, что случившееся – это нарушение нормы». В этом смысле вторичная неловкость выполняет нравоучительную и нормативную функцию: не случайно ряд исследователей рассматривают её как про-социальную эмоцию, способствующую сплочению групп вокруг разделяемых правил приличия [12].
Классики социологии подчёркивали, что сама по себе ситуация конфуза – мощный механизм социального регулирования. Ещё Эрвинг Гофман отмечал, что когда кто-то оплошал и оказался в центре внимания, вокруг мгновенно воцаряется «тень непрекращающейся неловкости», причём заражаются ей все участники взаимодействия. Возникает своеобразная «эпидемия смущения», распространяющаяся на всё более широкий круг людей [8]. Каждый присутствующий начинает остро ощущать, какие негласные правила нарушены, стараясь не повторить промах. Таким образом, коллективно пережитая неловкость парадоксальным образом лишь укрепляет чувство нормы. Хотя в момент конфуза жертва смущения словно бы «выпадает из общества», оставаясь наедине со своим стыдом [8], – эта временная изоляция служит напоминанием остальным о границах допустимого, побуждая всех стремиться вернуться к состоянию стабильного социального порядка. Можно сказать, что вторичный стыд за другого – это иммунная система культуры, позволяющая обществу оперативно помечать нежелательные отклонения и возвращать «заблудших» в рамки приличий.
«Кринж» как пограничный знак: нормы, аудитории и расхождение кодов.
Если викарная неловкость в основном носит эмпатично-нормативный характер, то в широком употреблении слово «кринж» уже не нейтрально. Называя чьё-то поведение «кринжовым», люди нередко выражают оценочное суждение. По мнению философа М. Васильевой, кринж – это, в сущности, суждение о действии и опыте Другого, причём суждение особого рода [3]. Оно выносится наблюдателем на экзистенциальных основаниях: то есть мы признаём поведение другого неприемлемым для себя, «чужим» своему кругу. В этом плане кринж схож с такими эстетическими суждениями, как, например, китч: и китч, и кринж – это оценка не только объекта, но и реакции на него [3]. Мы называем «кринжовым» не просто чей-то поступок или творение, но и подразумеваем, что реакция, на которую тот рассчитывал, была неуместной или чрезмерной. Проще говоря, кринж – это когда кто-то явно метил «в красивое/смешное/крутое», а получилось – неловко и дурновкусно.
Почему же возникают такие ситуации расхождения ожиданий? Здесь в игру вступает социальная логика норм и аудиторий. Кринж часто является индикатором несовпадения культурных кодов. Поведение, уместное и понятное в одном контексте, может показаться смешным или жалким – «кринжовым» – для посторонней аудитории. Например, подросток, искренне декламирующий пафосные стихи о любви на школьной сцене, может вызвать умиление у учителей и родителей, но ролик с этим выступлением, попав в интернет, рискует стать объектом насмешек. Происходит «коллапс контекста»: содержание, рассчитанное на одну аудиторию, выходит за её пределы и оценивается другой группой со своими стандартами [8]. В результате то, что изначально не подразумевало ничего постыдного, ретроспективно маркируется как кринж.
Несовпадение норм может быть обусловлено разницей поколений, субкультур, уровней образования – любыми разграничителями социального опыта. Часто кринж-ситуации возникают при расхождении статуса и роли: когда человек претендует на образ, не соответствующий его реальному положению или способностям. Классический пример – самоуверенный дилетант, выставляющий напоказ мнимые знания или талант. Зрители испытывают смешанное чувство неловкости и раздражения: с одной стороны, жалко бедолагу, выставившего себя напоказ, с другой – неловко за всю ситуацию перед лицом нормы «не высовываться не по чину». Такого рода кринж близок к тому, что социологи описывали как «потеря лица»: несоответствие между желаемым имиджем и фактической оценкой окружающих вызывает у всех участников взаимодействия чувство дискомфорта.
Важно подчеркнуть, что кринж – это именно пограничный знак. Он маркирует ситуацию на границе приемлемого и неприемлемого, смешного и жалкого, своего и чужого. В отличие от однозначного осуждения (которое характерно для морали: постыдное должно быть порицаемо) кринж-суждение носит амбивалентный характер. Оно как бы говорит: «то, что происходит – не нарушение строгого запрета, но ужасно неуместно в данном контексте». Кринж указывает на разрывы в социальных кодах – например, на проникновение интимно-личного в публичное, или на попытку низкого предъявить себя как высокое. Именно поэтому кринж-ситуации столь часто связаны с эффектом зазора между искренностью и формой. Человек может искренне стремиться выглядеть круто, романтично или остроумно, но, если форма исполнения не соответствует невидимым требованиям аудитории, результат оборачивается кринжем. Таким образом, кринж-суждение выполняет функцию социального разграничения: обозначая нечто как «кринжовое», мы дистанцируемся от этого явления, выстраивая границу между «нами» и «ними» [8]. Так подросток, стыдящийся старых фотографий с детским увлечением, называет их кринжовыми, отделяя своего «нового себя» от прежней наивности; а представители одной субкультуры могут считать кринжовым творчество другой, тем самым подчёркивая ценностную границу.
Типология кринжа: от осуждения до освобождения.
Явление кринжа многогранно. Попробуем предложить условную типологию кринжа, выделив несколько его разновидностей:
Эмпатический кринж («испанский стыд») – основан преимущественно на сочувствии. Наблюдатель чувствует неловкость за другого, который сам не осознаёт своего конфуза. Этот вид кринжа близок к чистому викарному смущению: здесь минимум осуждения и максимум болезненной эмпатии. Пример – зритель скукоживается от стыда, глядя как певец фальшиво поёт, но сам убеждён, что блистает талантом. Социальная функция: усиление норм через сочувственное переживание за нарушителя (см. выше).
Критический кринж (осудительный) – содержит значительную долю отрицательной оценки и даже презрения. В этом случае говорить «мне кринжово на это смотреть» равноценно тому, чтобы заявить о своем отторжении увиденного. Наблюдатель не столько разделяет эмоцию конфуза, сколько уличает другого в нелепости или дурном вкусе. Примеры: подростки оценивают взрослых (танцы, юмор, сленг) как «кринж» – тем самым выражая поколенческое непонимание; или интернет-аудитория высмеивает чрезмерно пафосный ролик как «эпичный кринж». Социальная функция: разграничение «своего круга» и «чужого», поддержание чувства превосходства за счёт дистанцирования. По сути, это форма стигматизации: ярлык «кринжовый» здесь сродни ярлыку китча в искусстве – указание на отклонение от принятого вкуса [8].
Кринж-комедия (интенциональный кринж) – намеренно создаваемая ситуация неловкости с целью развлечения. В данном случае авторы (комики, блогеры) сознательно инсценируют нарушения социальных норм, заставляя аудиторию переживать испанский стыд, который парадоксально вызывает смех [8]. Примеры: телесериалы жанра «комедия неловких ситуаций», скетчи, где герой ведёт себя вопиюще неуместно (как Майкл Скот или герои Саши Барона Коэна). В интернет-культуре тоже процветает подобный жанр: блогеры снимают заведомо нелепые, абсурдные видео, играя на эффекте кринжа. Социальная функция: такое испытание неловкостью может выполнять катартическую роль – позволяя аудитории безопасно проживать запретные или дискомфортные ситуации и высмеивать социальные страхи [8]. Кроме того, кринж-комедия часто служит тонкой сатирой, вскрывая чрезмерную серьёзность, лицемерие или предрассудки через гиперболу неловкости.
Экзистенциальный кринж (освобождающий) – самая любопытная и парадоксальная разновидность. Здесь кринж возникает, когда человек перестаёт бояться выглядеть нелепо, полностью отбрасывая дистанцию между собой и своим «позором». Философы описывают это как своего рода «снятый кринж», обращённый на самого себя [2]. Любовь Михайлова разделяет «кринж (1)» – то самое чувство стыда за внешнее – и «кринж (2)», при котором неловкость схлопывается, превращаясь в принятие собственной уязвимости. Если кринж (1) похож на китч (непреднамеренная нелепость), то кринж (2) близок к кэмпу – эстетике осознанной уязвимости и «наивной серьёзности». Когда человек говорит: «Да, я кринж, но я свободен», – он, по сути, совершает трансгрессию через кринж. Пропадает привычная дистанция осуждения, и вместо стыда появляется странная смесь откровения и свободы. Кринж как бы проникает за границу стыда и превращается в новое переживание – радикальную искренность, не оглядывающуюся на чужую насмешку. Такой кринж может иметь профанирующий эффект (в духе идей Дж. Агамбена): он снимает властные диспозиции социальных норм и возвращает человеку спонтанность [2]. Пример: художник намеренно выставляет напоказ то, что обычно считается «позорным» или «дешёвым», превращая стыд в арт-выражение – тем самым лишая его силы. В масс-культуре близкое явление – постирония и метамодернизм: сочетание искренности и иронии, когда человек одновременно осознаёт возможность выглядеть глупо, но всё равно выражает подлинные чувства. Социальная функция: такой кринж бросает вызов диктату нормативности и открывает пространство для новых форм самопринятия и творчества [2].
Разумеется, границы между этими типами кринжа размыты. Одно и то же событие может вызывать у разных людей разные оттенки кринж-реакции. Тем не менее, предложенная типология показывает, что за феноменом кринжа стоят различные социальные механизмы – от конформного укрепления норм до бунтарского разрыва с ними.
Публичность и алгоритмы: как кринж становится вирусным.
Особенность современного мира в том, что неловкость всё реже остаётся приватным переживанием. Цифровая эпоха сделала возможным мгновенное распространение любой локальной «офлайн»-ситуации на неограниченную аудиторию. Смещается и наше восприятие приемлемого: то, что раньше вызвало бы лишь минутный конфуз у нескольких свидетелей, теперь может быть заснято на видео и подвергнуто суду тысяч комментаторов в сети. Публичность многократно усиливает эффект кринжа по нескольким причинам.
Во-первых, публичность означает множественность аудиторий. Как отмечалось выше, кринж часто рождается на стыке разных аудиторских ожиданий. Социальные сети и платформы вроде TikTok или YouTube сводят воедино людей с разными культурными кодами – происходит эффект context collapse, «схлопывания контекстов». В итоге любительское видео, снятое «для своих», может случайно попасть в тренды и показаться нелепым миллионам пользователей, чьих норм автор не учитывал. Алгоритмы рекомендаций только усугубляют эту ситуацию: система может разносить ролик всё шире, если видит, что он вызывает активный отклик – пусть даже в форме возмущения или насмешек.
Во-вторых, в публичной сфере включаются механизмы стигматизации и хайпа. Кринж-контент зачастую потребляется аудиторией не с эмпатией, а с азартом зрелища. Виральность неудобных моментов обусловлена нашим амбивалентным притяжением к ним: подобно тому, как сложно отвести глаз от неудачного выступления, публика раз за разом кликает на «кринжовые» видео. Исследователи медиа фиксировали этот тренд: «плохие тексты рождают хорошие мемы», – шутит Л. Шифман, отмечая, как активно интернет тиражирует нарочито неуклюжие, «трэшовые» материалы [8]. Алгоритмы, в свою очередь, замечают повышенный интерес и показывают такое содержимое ещё большему числу пользователей. Возникает своего рода цифровой peer pressure («давление со стороны сверстников»): видя, что над кем-то уже смеются, всё больше людей подключаются к хору, усиливая кринж-эффект вокруг объекта внимания [9].
Кроме того, сама эстетика соцсетей поощряет форматы, граничащие с кринжем. Короткие видео в TikTok, вызывающие реакции по принципу «залипательно или кринжово», провоцируют пользователей на быстрые оценки и пародии. Алгоритм учитывает не только лайки, но и время просмотра, репосты, комментарии – а возмущённый или насмешливый отклик тоже подкрепляет метрику вовлечённости. Таким образом, негативное внимание превращается в капитал: чем больше людей испытывают «кринж», тем выше показатели охвата. Платформы фактически вознаграждают контент, вызывающий сильные эмоции – независимо от их валентности. Так формируется самоподдерживающийся цикл: кринж-ситуации получают непропорционально широкое распространение, что, в свою очередь, повышает шансы появления новых кринж-явлений, ведь кто-то сознательно стремится «хайпануть» через эпатаж и нелепость. Нередко можно встретить фразу: «Это настолько плохо, что даже хорошо» – в эпоху алгоритмов грань между позором и славой действительно истончается.
Наконец, публичность означает потерю контекстуального смягчения. Вживую, среди знакомых, неловкая ситуация часто быстро разряжается: окружающие тактично переводят тему или поддерживают шуткой. В интернете же контекст комментариев склонен усугублять кринж: люди соревнуются в остроумном высмеивании, не заботясь о чувствах того, кто по ту сторону экрана. Анонимность и массовость ведут к тому, что эмпатический компонент может исчезать, уступая месту «насмешке над кринжом» как виду развлечения. Под видом коллективного стыда нередко реализуется коллективное унижение – и это уже выходит за пределы доброй социальной функции смущения, превращаясь в токсичную практику травли. Таким образом, алгоритмическая публичность способна искажать баланс составляющих кринжа, смещая его в сторону осуждения и насмешки, и ослаблять корректирующую, «исцеляющую» составляющую эмпатии.
Заключение: риск стигматизации искренности.
Рассмотрев природу кринжа, можно понять, почему страх выглядеть «кринжово» стал приметой нашего времени. В эпоху, когда каждая оплошность может стать достоянием миллионов, публичный стыд превращается в пугающий социальный санкционирующий механизм. Молодое поколение усваивает неписаный закон: «быть искренним – опасно, за это могут прилюдно высмеять». Возникает парадокс: стремясь избежать кринжа, люди начинают самоцензурировать искренность. Спонтанность, наивный энтузиазм, пафос, чрезмерное выражение чувств – всё это зонально приближено к красной черте «кринжа» и потому подавляется из боязни общественной реакции. Культура, изобилующая ироническим высмеиванием, рискует впасть в состояние, где искренность априори подозрительна. Каждый старается показать, что он «в курсе» и достаточно циничен, чтобы не выглядеть глупо. Но цена такого предохранения – обеднение эмоционального опыта и творчества. Когда мы боимся быть смешными, мы перестаём пробовать новое, играть, испытывать себя на прочность. Ирония превращается в броню, которая защищает от насмешек, но и не пропускает тепло подлинного общения.
Конечно, не всякий кринж вреден – мы видели, что он имеет и позитивные, адаптивные грани. Более того, современная мысль пытается переосмыслить кринж как источник ресурса: по выражению одного автора, «I am cringe, but I am free» («Я кринжовый – но зато свободный») [2]. В этом лозунге содержится призыв преодолеть парализующий страх осуждения и вернуть себе право на искренность, даже если она чревата неловкостью. Возможно, будущее культуры – за новым балансом между иронией и открытостью, где люди перестанут жестоко высмеивать чужую неуклюжесть, но и сами не побоятся время от времени выглядеть нелепо. Социальная логика кринжа учит нас, где пролегают границы нормы – но также напоминает, что живое творчество начинается там, где мы выходим за эти границы. Важно не превратить страх кринжа в тюрьму для человеческой искренности. Ведь, в конечном счёте, именно способность смеяться над собой – а не только над другими – отличает общество здоровое от общества, закованного в кандалы презрения. Найдя место и сочувствию к чужой неловкости, и юмору над условностями, мы сможем преобразовать кринж из инструмента стигмы в инструмент понимания и освобождения.
Список литературы:
- Дунилов И. М., Вязигин Н. Д. Кринж: между метамодернизмом и постмодернизмом // культура и искусство. 2025. № 7 4. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/krinzh-mezhdu-metamodernizmom-i-postmodernizmom (дата обращения 20.09.2025)
- Китч, Кэмп и Кринж Как Агенты Профанации // Scribd [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://ru.scribd.com/document/874263800/Китч-Кэмп-и-Кринж-Как-Агенты-Профанации (дата обращения: 20.09.2025).
- Кринж как этический китч и практика дистанцирования // ЛОГОС [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://logosjournal.ru/articles/2754/ (дата обращения: 20.09.2025).
- Cringe // Oxford English Dictionary [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.oed.com/dictionary/cringe_v (дата обращения: 20.09.2025).
- Easily embarrassed? Study finds people will trust you more // UC Berkeley news [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://news.berkeley.edu/2011/09/28/easily-embarrassed/ (дата обращения: 20.09.2025).
- Embarrassment: A Form of Social Pain // American Scientist [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.americanscientist.org/article/embarrassment-a-form-of-social-pain (дата обращения: 20.09.2025).
- Flustered and Faithful: Embarrassment as a Signal of Prosociality // Journal of Personality and Social Psychology [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://web.archive.org/web/20190302180901/http://pdfs.semanticscholar.org/a75f/af6748be54be79a667ca803e23fe3c67b2a2.pdf (дата обращения: 20.09.2025).
- Introduction to Painful Laughter: Media and Politics in the Age of Cring // MDPI [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.mdpi.com/1383496 (дата обращения: 20.09.2025).
- Peer pressure // Oxford Learner's Dictionaries [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/peer-pressure#google_vignette (дата обращения: 20.09.2025).
- Vicarious Embarrassment or “Fremdscham”: Overendorsement in Frontotemporal Dementia // Psychiatry online [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.neuropsych.19030053# (дата обращения: 20.09.2025).
- When your friends make you cringe: social closeness modulates vicarious embarrassment-related neural activity // Oxford Academic [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://academic.oup.com/scan/article/11/3/466/2375135 (дата обращения: 20.09.2025).
- Your Flaws Are My Pain: Linking Empathy To Vicarious Embarrassment // National Library of Medicine [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3076433/ (дата обращения: 20.09.2025).
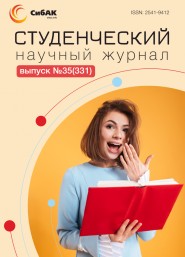

Оставить комментарий