Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 34(330)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
HISTORICAL ASPECT OF THE FORMATION OF THE STATUS OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Rychkova Ekaterina Sergeevna
Master's student, Department of Theory and History of Russian and Foreign Law, Vladivostok State University (VSU),
Russia, Vladivostok
АННОТАЦИЯ
Цель. Исследовать историческую эволюцию конституционно-правового статуса Федерального Собрания РФ и выявить ключевые проблемы современного нормативного регулирования российского парламентаризма.
Метод. Историко-правовой и сравнительно-правовой анализ конституционных норм, решений Конституционного Суда РФ и федерального законодательства, регулирующего формирование и функционирование палат парламента с 1993 по 2020 годы.
Результат. Выявлена двойственность конституционно-правовой природы Федерального Собрания как обобщающего понятия при фактической самостоятельности палат; установлены противоречия между институтом пожизненных сенаторов и принципом сменяемости власти; обнаружена терминологическая коллизия в тексте Конституции РФ относительно наименования членов верхней палаты.
Выводы. Институт пожизненного сенаторства требует конституционно-правовой оценки на предмет соответствия демократической природе государства; необходимо устранение терминологической несогласованности между понятиями «член Совета Федерации» и «сенатор Российской Федерации» в главе 9 Конституции для обеспечения правовой определенности.
ABSTRACT
Background. To examine the historical evolution of the constitutional and legal status of the Federal Assembly of the Russian Federation and identify key problems of modern normative regulation of Russian parliamentarism.
Methods. Historical-legal and comparative-legal analysis of constitutional norms, decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation and federal legislation regulating the formation and functioning of the chambers of parliament from 1993 to 2020.
Result. The duality of the constitutional and legal nature of the Federal Assembly as a generalizing concept with the actual independence of the chambers has been revealed; contradictions between the institution of life senators and the principle of rotation of power have been established; terminological conflict in the text of the Constitution regarding the naming of members of the upper chamber has been discovered.
Conclusion. The institution of life senatorship requires constitutional and legal assessment for compliance with the democratic nature of the state; it is necessary to eliminate terminological inconsistency between the concepts "member of the Federation Council" and "senator of the Russian Federation" in Chapter 9 of the Constitution to ensure legal certainty.
Ключевые слова: Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума, пожизненное сенаторство, конституционная реформа, парламентаризм, двухпалатная структура, сменяемость власти, терминологическая коллизия.
Keywords: Federal Assembly, Federation Council, State Duma, life senatorship, constitutional reform, parliamentarism, bicameral structure, rotation of power, terminological conflict.
Парламентская система России претерпела существенные трансформации на протяжении последних десятилетий. Анализ эволюции двухпалатной структуры высшего законодательного органа позволяет выявить ключевые закономерности конституционно-правового развития отечественной государственности.
Рассматривая природу Федерального Собрания, исследователи неоднократно обращались к вопросу о соотношении статуса парламента в целом и его палат. Конституционный Суд в 1995 году столкнулся с необходимостью разрешения дилеммы: представляют ли Государственная Дума и Совет Федерации самостоятельные институты власти, либо выступают структурными компонентами единого органа [1]. Конституционные положения содержат определенную двойственность. Статья 94 Основного закона характеризует Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган государственной власти, состоящий из двух палат. Однако последующие статьи главы 5 Конституции регламентируют преимущественно компетенцию каждой палаты отдельно, не устанавливая специфических полномочий парламента как коллегиального образования.
Подобная конструкция порождает обоснованные суждения о том, что термин «Федеральное Собрание» носит скорее обобщающий характер, тогда как реальными субъектами конституционных правоотношений выступают именно палаты. Данный подход находит подтверждение в практике функционирования системы государственной власти: в правовом поле действуют исключительно Государственная Дума либо Совет Федерации, принимая самостоятельные акты и реализуя собственные прерогативы.
Обращаясь к историческому контексту, необходимо отметить принципиальное отличие современного российского парламентаризма от советской модели народного представительства. Верховный Совет РСФСР концентрировал не только законотворческие функции, но и осуществлял верховное государственное управление, что кардинально отличало его от классических западных парламентов. Конституция 1993 года закрепила иную концепцию, основанную на принципе разделения властей, где Федеральное Собрание лишено функций высшего руководства государством. Именно поэтому законодатель счел возможным использовать термин «парламент» в тексте Основного закона, подчеркивая специализированный законодательный характер данного института.
Механизм формирования Государственной Думы базируется на принципе всеобщего прямого избирательного права. Конституция фиксирует численность депутатского корпуса - 450 человек, однако избирательная система определяется федеральным законодательством, которое претерпевало неоднократные модификации [2]. Первоначальная модель предусматривала избрание половины депутатов по одномандатным избирательным округам, а второй половины - по общефедеральному округу на основе пропорционального представительства политических партий [3, с. 30]. Избиратели получали два бюллетеня, что обеспечивало сочетание персонифицированного и партийного представительства.
Законодательные реформы 2000-х годов установили полностью пропорциональную систему, когда весь состав нижней палаты избирался по партийным спискам [4]. Действующее правовое регулирование вернулось к смешанной избирательной системе, сочетающей мажоритарный и пропорциональный компоненты. Такие изменения отражают поиск оптимального баланса между представительством территориальных интересов и политических сил.
Эволюция порядка формирования Совета Федерации оказалась более драматичной. Первый созыв верхней палаты избирался непосредственно населением субъектов Федерации одновременно с голосованием по Конституции в декабре 1993 года. Каждый регион направлял двух представителей, получивших мандат путем прямых выборов. Переходные положения Конституции ограничили срок полномочий данного состава двумя годами, предусмотрев последующее определение порядка формирования федеральным законом.
Принятое в 1995 году законодательство кардинально изменило механизм комплектования верхней палаты: в Совет Федерации вошли по должности главы исполнительной власти субъектов и председатели региональных законодательных органов [5]. Данная конструкция просуществовала до 2000 года, вызывая критику по нескольким основаниям. Во-первых, одновременное исполнение обязанностей в регионе и участие в работе федерального органа препятствовало постоянному характеру деятельности палаты. Во-вторых, присутствие руководителей исполнительной власти в составе законодательного органа противоречило концепции разделения властей, закрепленной статьей 10 Конституции.
Реформа 2000 года установила новую модель: региональные парламенты избирают представителя от законодательного органа субъекта, а главы регионов назначают представителя от исполнительной власти [6]. Конституционная поправка 2014 года дополнила состав верхней палаты представителями Российской Федерации, назначаемыми Президентом в количестве не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации, представляющих субъекты [7, с. 164].
Масштабные конституционные изменения 2020 года внесли существенные коррективы в структуру верхней палаты. Законодатель предусмотрел увеличение числа президентских назначенцев до тридцати человек, причем до семи из них могут получить статус пожизненных сенаторов. Кроме того, бывшие главы государства приобрели право пожизненного членства в Совете Федерации, от которого они могут отказаться [9].
Институт пожизненного сенаторства в условиях демократического государственного устройства вызывает обоснованные дискуссии. Конституция непосредственно не закрепляет принцип сменяемости власти среди основополагающих характеристик политической системы. Лишь конституции Португалии и Гондураса содержат прямое указание на данный принцип как фундаментальную ценность. Тем не менее, Конституционный Суд в постановлении от 9 июля 2002 года признал сменяемость власти производным от характеристик демократического государства с республиканской формой правления, вытекающим из статьи 1 Конституции [8].
Следует признать, что в период с 2014 по 2022 год Президент не использовал полномочия по назначению сенаторов, включая пожизненных. Однако само наличие такой возможности входит в противоречие с правовой позицией Конституционного Суда относительно сущности демократического государства. Закон о поправках определяет, что назначение происходит из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед Отечеством или обществом, однако критерии оценки подобных заслуг остаются неопределенными.
Конституционная реформа 2020 года затронула не только механизм формирования, но и терминологическое обозначение членов верхней палаты. Закон о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года предусмотрел замену термина «член Совета Федерации» на «сенатор Российской Федерации» в большинстве статей Основного закона [10]. Изменения коснулись части 2 статьи 82, части 2 статьи 93, частей 2-6 статьи 95, части 2 статьи 97, части 1 статьи 98, части 3 статьи 102, части 1 статьи 104, части 3 статьи 107, части 2 статьи 108, части 2 статьи 125 Конституции [11, с. 4].
Вместе с тем, в статье 134 и части 2 статьи 135 Конституции сохранилось прежнее наименование «член Совета Федерации», что создает явную нормативную коллизию. Буквальное толкование конституционного текста приводит к абсурдному выводу: сенаторы Российской Федерации формально лишены права поддерживать предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции согласно части 2 статьи 135, а группа сенаторов численностью не менее одной пятой от общего состава не может вносить предложения о поправках и пересмотре Конституции в соответствии со статьей 134.
Данная ситуация объясняется особым порядком изменения указанных статей, относящихся к главе 9 Конституции, положения которой наряду с главами 1 и 2 могут быть пересмотрены только Конституционным Собранием. Однако логика законодателя представляется непоследовательной, поскольку в части 4 статьи 105, относящейся к главе 5, изменения в которую были внесены, сохранена формулировка «члены этой палаты» без замены на термин «сенаторы».
Федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в пункте 2 статьи 44 распространяет гарантии социальной защиты сенаторов на членов Совета Федерации, осуществлявших полномочия с января 1996 года [12]. Таким образом, законодатель фактически признает тождественность понятий, однако это не устраняет конституционной коллизии, требующей законодательного разрешения.
Современное состояние нормативного регулирования не способствует единообразию правоприменения и может негативно отразиться на стабильности правопорядка. Терминологическая несогласованность в тексте Основного закона подрывает принцип юридической определенности, являющийся одним из элементов правового государства.
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. Федеральное Собрание как парламент Российской Федерации прошло длительный путь институционального развития. Советская традиция избегала западной парламентской терминологии, поскольку отечественная модель народного представительства существенно отличалась сосредоточением не только законодательных, но и верховных государственных полномочий. Конституция 1993 года закрепила Федеральное Собрание как собирательное понятие, по существу тождественное парламенту. Данное наименование подчеркивает федеративный характер государственного устройства, отражая представительство всего многонационального народа и всех территорий России.
Введение института пожизненного членства в верхней палате представляется дискуссионным решением в контексте конституционных характеристик России как демократического государства с республиканской формой правления. Несмотря на отсутствие практики применения соответствующих президентских полномочий, сама возможность их реализации требует конституционно-правовой оценки. Целесообразно поручить Конституционному Суду толкование соотношения института пожизненных сенаторов с принципом сменяемости власти, признанным производным от демократической природы российской государственности.
Терминологическая замена «членов Совета Федерации» на «сенаторов Российской Федерации» осуществлена непоследовательно, что порождает коллизии конституционных норм. Для устранения правовой неопределенности необходимо в части 2 статьи 135 и статье 134 главы 9 Конституции либо произвести соответствующую терминологическую замену, либо указать на тождественность данных понятий. Первый путь затруднен особым порядком пересмотра указанных положений, второй требует созыва Конституционного Собрания, что делает проблему особенно актуальной для конституционно-правовой науки и практики.
Список литературы:
- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 1995 года № 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 2-3.
- Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740.
- Грудинин Н. С. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации как орган народного представительства: вопросы теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2016. 30 с.
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 3-ФЗ «О выборах Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3178.
- Федеральный закон от 5 декабря 1995 года № 192-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (утратил силу) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 50. Ст. 4869.
- Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 32. Ст. 3336.
- Безруков А. В. Парламентское право и парламентские процедуры в России. Москва: Юстицинформ, 2015. 164 с.
- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июля 2002 года № 12-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 18 и статьи 30.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2002. № 6.
- Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции от 1 июля 2020 года) // Российская Газета. 2020. 14 марта.
- Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416.
- Мадаев Е. О. Теоретико-правовые проблемы введения термина «Сенатор» в Конституцию Российской Федерации // Пролог: журнал о праве. 2020. № 3 (27). С. 4-11.
- Федеральный закон от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 2. Ст. 74.
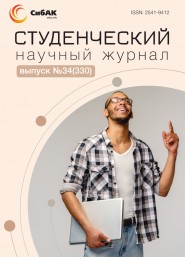

Оставить комментарий