Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 31(327)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Введение
Кредитование стало одной из ключевых функций современной экономики. Решения о выдаче займа принимаются всё чаще автоматически, на основании скоринговых моделей и удалённой идентификации. Тот же технологический прогресс, который ускоряет обслуживание добросовестных клиентов, облегчает и противоправные посягательства. Криминальные группы и одиночные правонарушители используют уязвимости инфраструктуры, недочёты бизнес-процессов и недостаточную финансовую грамотность населения. В результате возрастает нагрузка на правоохранительные органы и суды, а финансовые организации вынуждены усиливать контроль и закладывать дополнительные риски в стоимость продуктов.
Мошенничество в кредитной сфере наносит ущерб не только кредитным организациям, но и экономике в целом. Рост потерь неизбежно закладывается в стоимость риска, что повышает процентные ставки и сужает доступ к кредиту для добросовестных заёмщиков. Для граждан последствия выражаются в потерях имущества, долгих спорах, ухудшении кредитной репутации и психологическом стрессе. Для государства — в необходимости повышать расходы на пресечение и расследование преступлений и поддерживать устойчивость финансового рынка. Таким образом, проблема имеет социальную, экономическую и правовую значимость и требует комплексного подхода.
Цель статьи — комплексно проанализировать уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничества в сфере кредитования, обобщить подходы правоприменения и предложить практические меры противодействия. Задачи включают: систематизацию нормативной базы; выделение элементов состава преступления; описание типичных моделей поведения злоумышленников; выявление узких мест расследования и доказывания; сопоставление российских и зарубежных решений; формулирование рекомендаций для кредиторов и правоохранительных органов.
1. Нормативные основы и состав преступления
Специальный состав мошенничества в сфере кредитования закреплён в ст. 159.1 УК РФ. Его содержание сводится к хищению денежных средств кредитной организации или приобретению права на их получение путём обмана при заключении кредитного договора. Объектом посягательства являются общественные отношения в сфере собственности и устойчивости финансовой системы, а дополнительным объектом — интересы кредитных организаций как профессиональных участников рынка. Предмет преступления представлен денежными средствами либо правом на их получение.
Объективная сторона выражается в активных действиях по введению кредитора в заблуждение относительно фактов, влияющих на принятие решения: доходы и занятость, кредитная нагрузка, наличие обязательств, достоверность предоставленных документов, а при дистанционных заявках — подлинность субъекта, совершающего действия от имени клиента. Субъективная сторона — прямой умысел, формирующийся до выдачи кредита; лицо осознаёт, что вводит в заблуждение кредитора, и желает завладеть средствами, не намереваясь их возвращать. Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Взаимосвязанный массив норм включает Гражданский кодекс РФ (правила о кредитном договоре), Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», закон «О потребительском кредите (займе)», закон «О кредитных историях», акты Банка России, определяющие требования к идентификации клиентов, управлению операционными и мошенническими рисками, а также УПК РФ, регламентирующий порядок собирания и оценки доказательств. Наиболее значимыми ориентирами являются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, где подчёркивается необходимость чёткого разграничения уголовно наказуемого мошенничества и гражданско-правового неисполнения обязательств.
2. Криминологическая характеристика
Кредитное мошенничество обладает высокой адаптивностью. По мере развития дистанционных сервисов возрастает доля эпизодов, в которых злоумышленники используют утечки персональных данных, поддельные документы, подставных лиц, а также компрометацию учётных записей клиентов при помощи фишинга, вредоносного ПО и замены SIM-карт. Латентность значительна: многие попытки пресекаются на стороне кредитора и не попадают в официальную статистику, а часть потерпевших не обращается с заявлениями из-за скепсиса к перспективам возврата средств или страха репутационных последствий. Это усложняет оценку реального масштаба явления.
Виктимологический профиль наиболее уязвимых групп включает граждан с низким уровнем финансовой и цифровой грамотности, пожилых людей, молодых пользователей, впервые оформляющих кредит, а также лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Важны и институциональные уязвимости: рассогласованность скоринговых правил разных кредиторов, дефицит обмена «сигналами» риска, различия в глубине аутентификации в зависимости от канала обслуживания, несовершенство верификации источников дохода. Всё это формирует благоприятную среду для организованных схем и «серых» посредников.
3. Типичные модели противоправного поведения
Документарная модель основана на предоставлении заведомо ложных сведений о доходах, месте работы и кредитной нагрузке, использовании поддельных справок и фиктивных договоров. После получения средств наблюдается быстрый вывод денег и отсутствие попыток их возврата, что ретроспективно подтверждает исходный умысел.
«Дроповая» модель предполагает использование подставных лиц, чаще всего социально уязвимых. Роли в преступной группе распределены: одни вербуют «дропов», другие оформляют заявки и взаимодействуют с сотрудниками кредитора, третьи обналичивают средства и рассеивают денежные потоки через цепочки переводов и криптокошельки.
Цифровая модель базируется на компрометации учётных записей клиента и угоне сеанса. Применяются фишинговые сайты, вредоносные приложения, подмена SIM-карты, перехват одноразовых кодов. Кредит дистанционно оформляется от имени потерпевшего, средства дробятся и переводятся на заранее подготовленные счета; для усложнения трассировки используются микс-сервисы и P2P-площадки.
Смешанные схемы включают «карусель» заявок одновременно в нескольких организациях, манипулирование оценкой залога, подмену контактных данных после одобрения, а также участие недобросовестных сотрудников кредиторов, имеющих доступ к внутренним системам.
4. Судебная практика и доказывание
Определяющим для квалификации является момент формирования умысла. Пленум ВС РФ указывает, что простое неисполнение кредитного договора, вызванное объективными обстоятельствами, не образует состава мошенничества. В то же время представление подложных сведений на стадии заключения договора, сокрытие значимой информации и поведение заёмщика, свидетельствующее о намерении не исполнять обязательства (моментальный вывод средств, смена контактов, отсутствие переговоров о реструктуризации), воспринимаются судами как признаки исходного умысла. Анализ «поведенческих индикаторов» становится важной частью судебного исследования.
Цифровизация обслуживания переносит фокус доказывания в сферу электронных артефактов. Для признания их допустимыми необходима корректная процессуальная фиксация происхождения и целостности данных: протоколы осмотра, хеш-суммы, зеркалирование журналов, надлежащая атрибуция учётных записей и устройств, экспертные заключения специалистов в области компьютерной криминалистики и связи. На практике критически важны своевременные запросы оператору связи по факту замены SIM-карты, детализация событий аутентификации и операций в дистанционных каналах, сопоставление геолокации устройств с привычным профилем клиента.
5. Зарубежные подходы
Системы коллективного противодействия, действующие в ЕС и Великобритании (CIFAS, SCHUFA), показывают эффективность при межбанковском обмене «сигналами» риска и скоринговой информацией. Во многих юрисдикциях внедрены обязательные уведомления о запросах кредитной истории гражданина, возможность добровольной «заморозки» кредитной активности, а также «холодные паузы» для кредитных операций после замены SIM-карты или при входе с нового устройства. Эти инструменты одновременно повышают защищённость потребителей и снижают вероятность массовых атак.
Для России целесообразно адаптировать указанные решения: создать национальную платформу обмена «сигналами» риска между банками, МФО, БКИ и регулятором; закрепить на уровне закона уведомления о любых запросах кредитной истории; предоставить гражданину право оперативно блокировать кредитные действия по своему имени до выяснения обстоятельств. Это согласуется с курсом на развитие ответственного кредитования и защиту прав потребителей финансовых услуг.
6. Меры противодействия
Правовые меры предполагают уточнение квалифицирующих признаков по ст. 159.1 УК РФ, выделение использования ИКТ как отягчающего обстоятельства и закрепление в УПК РФ процессуальных стандартов работы с цифровыми доказательствами (минимальные требования к логированию, правила сохранения и передачи данных, критерии допустимости экспертных заключений).
Регуляторные меры включают установление обязательных правил межбанковского обмена сигналами риска, уведомления граждан о запросах их кредитной истории, «холодную паузу» на операции после SIM-swap, а также унификацию сроков хранения и форматов журналов критических событий: аутентификация, изменение реквизитов, привязка устройств, корректировка лимитов.
Технологические меры связаны с массовым внедрением многофакторной аутентификации и поведенческой биометрии, использованием device-fingerprint, построением систем мониторинга аномалий в реальном времени, применением машинного обучения с возможностью последующей интерпретации решений. Обязательной должна стать запись и хранение речевых взаимодействий с клиентом при операциях повышенного риска.
Организационные меры у кредиторов — формирование «проактивного досье» для передачи следствию: заверенные журналы, карта устройств и сессий, внутренняя хронология действий сотрудников, результаты служебного расследования. У следствия — «горячие» методики изъятия электронных следов, подготовленные шаблоны запросов и чек-листы фиксации цифровых артефактов, совместные группы с ИТ-специалистами.
Социальные меры включают постоянные программы повышения финансовой и цифровой грамотности, сценарные тренажёры распознавания социальной инженерии, стандартизированные предупреждения и «баннеры риска» в приложениях при аномальном поведении пользователя.
7. Дискуссионные вопросы
Дискуссии касаются границ между специальной нормой ст. 159.1 УК РФ и общим составом мошенничества (ст. 159 УК РФ), а также состава преступлений, связанных с использованием электронных средств платежа. Наиболее убедительным представляется подход, связывающий квалификацию со спецификой механизма причинения вреда кредитной организации при заключении кредитного договора: если обман направлен на получение кредитных средств, приоритет имеет специальная норма.
Проблемным остаётся вопрос квалификации действий сотрудников кредиторов, использующих служебное положение для оформления фиктивных кредитов. В таких случаях возможна совокупность преступлений: мошенничество и злоупотребление полномочиями либо превышение полномочий, в зависимости от фактических обстоятельств и роли каждого участника.
Неоднозначной остаётся и оценка поведения «дропов». Если лицо осознаёт фиктивность операции и принимает вознаграждение, его действия следует квалифицировать как соучастие с учётом реального вклада, а позицию — оценивать в совокупности с цифровыми следами и финансовыми транзитами. При отсутствии осознания состава преступления и наличии вводящей в заблуждение информации возможна оценка ситуации как виктимной, что отражается на выборе правовых средств защиты.
8. Модель «трёх контуров»
Предлагаемая модель интегрирует три взаимосвязанных контура. Правовой контур обеспечивает ясность составов и процессуальные стандарты работы с цифровыми доказательствами. Регуляторно-инфраструктурный контур формирует платформу обмена «сигналами» риска, устанавливает обязательные уведомления и «холодные паузы», унифицирует требования к логированию. Организационно-технологический контур вшивает антифрод-механизмы в бизнес-процессы кредиторов и обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами в формате заранее согласованных процедур. Такая архитектура повышает предсказуемость правоприменения и снижает издержки всех участников.
Методология и ограничения исследования
Применён комплекс методов: формально-юридический анализ, сравнительное правоведение, системный и структурный анализ, кейс-стади, а также контент-анализ судебных актов и ведомственных писем. Использованы обобщения судебной практики, данные официальных отчётов и экспертные оценки. Ограничения исследования связаны с латентностью преступности, различиями в учёте инцидентов между ведомствами, неполной публичностью материалов дел, а также быстрым технологическим обновлением схем, что требует регулярной актуализации выводов и повторных замеров.
Практические рекомендации для кредиторов и следствия
Кредитным организациям рекомендуется: внедрить многофакторную аутентификацию на критических шагах клиентского пути; использовать поведенческую аналитику и device-fingerprint; стандартизировать логирование событий; проводить регулярные стресс-тесты антифрода; обучать персонал и контакт-центры распознаванию социальной инженерии; иметь план реагирования на сообщения клиентов о компрометации, включая мгновенную блокировку кредитной активности до выяснения обстоятельств.
Следственным подразделениям целесообразно: выстраивать раннее взаимодействие с банками и операторами связи; использовать шаблоны запросов по ключевым артефактам (SIM-swap, журналы аутентификации, записи звонков, история устройств); привлекать ИТ-специалистов и экспертов по цифровой криминалистике; обеспечивать непрерывность хранения электронных доказательств и их верификацию; формировать аналитические графы денежных транзитов для выявления организаторов схем.
Кейс-иллюстрации из российской практики (обобщение)
Для понимания механизмов мошенничества полезны обобщённые кейсы без указания персональных данных.
Кейс 1. Оформление кредита по поддельным сведениям о доходах. Злоумышленник использовал фиктивный договор с «карманным» работодателем и справку о заработке, предоставил поддельные контактные данные «бухгалтера». После получения средств они были обналичены через сеть банкоматов в течение суток. Суд установил наличие исходного умысла, указав на совокупность признаков: ложные сведения, отсутствие попыток обслуживать долг, быстрый вывод денег, смена контактных номеров. Действия квалифицированы по ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования.
Кейс 2. «Дроповая» схема с вербовкой студентов. Организаторы обещали вознаграждение за «оформление микрозайма для рейтинга банка», снабжали инструкциями по коммуникации с сотрудниками МФО, а затем изымали наличность у подставных заёмщиков. По данным цифровых следов установлены чаты в мессенджерах, IP-адреса организаторов и маршрутизация денежных переводов. Суд признал действия участников организованной группой; назначены реальные сроки лишения свободы и штрафы.
Кейс 3. Дистанционная заявка на имя потерпевшего. Произведена замена SIM-карты, после чего через мобильное приложение оформлен кредит и деньги переведены на «цепочку» карт. Ключевыми доказательствами стали журналы оператора связи о SIM-swap, логи аутентификации банка с данными устройства и геолокации, а также записи разговоров с контакт-центром. Суд подтвердил допустимость цифровых доказательств и взыскал ущерб с участников схемы.
Кейс 4. Внутренняя схема в кредитной организации. Сотрудник фронт-офиса использовал доступ к системе, чтобы инициировать выдачу кредита на подставные данные, рассчитывая на «размывание» транзитов. Внутренний аудит выявил аномалии: частые отклонения стандартных процедур проверки, совпадения адресов доставки карт, повторение устройств. Действия квалифицированы по совокупности статей о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Чек-лист индикаторов исходного умысла
— предоставление заведомо ложных сведений о доходах, занятости, кредитной нагрузке;
— сокрытие существенных обстоятельств (алиментные выплаты, исполнительные производства, действующие кредиты);
— быстрый вывод средств и отсутствие платежей в «льготный» период;
— смена контактных данных и устройств сразу после одобрения;
— активность из геолокаций и устройств, нетипичных для клиента;
— отсутствие переговоров о реструктуризации при наличии объективных трудностей;
— несоответствие электронных следов версии защиты.
Индикаторы не являются исчерпывающими, но их совокупность в контексте иных доказательств повышает доказательственную силу обвинения.
Ограничения и риски чрезмерного преследования
Одновременно важно избегать криминализации честной просрочки. Социально-экономические шоки могут резко ухудшать платёжеспособность заёмщиков. В таких ситуациях при отсутствии исходного обмана и при наличии активных действий по урегулированию долга (заявления о реструктуризации, предоставление достоверных сведений, частичные платежи) спор должен разрешаться гражданско-правовыми средствами. Судебная практика придерживается именно такого подхода, охраняя баланс между интересами кредитора и защитой добросовестных заёмщиков.
Список литературы:
- Долгова А.И. Криминология. — М.: Норма, 2021.
- Кибальник А.Г. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика. — СПб.: Юридический центр, 2021.
- Методические документы Банка России по управлению операционными и мошенническими рисками (актуальные версии).
- Михайлов С.А. Цифровые технологии и экономическая преступность // Журнал российского права. — 2021. — № 6.
- Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая и Особенная части. — М.: Норма, 2021.
- Обзор практики по допустимости электронных доказательств и цифровых следов в уголовном судопроизводстве // Бюллетень Верховного Суда РФ. OECD. Financial Crime in the Digital Era. — Paris: OECD Publishing, 2021.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О практике применения законодательства о мошенничестве»; Обзоры судебной практики ВС РФ.
- Соловьёв А.Н. Судебная практика по делам о мошенничестве в кредитной сфере // Российская юстиция. — 2020. — № 11.
- Smith R.G. Cyber Fraud and Financial Crime. — Cambridge: CUP, 2018.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 2025). Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; акты Банка России.
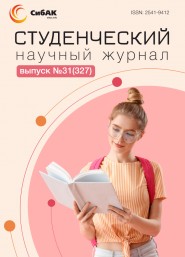

Оставить комментарий