Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 28(324)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
PROBLEMS OF REALIZATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS IN A STATE OF EMERGENCY
Baskakova Kseniya Anatolyevna
student, Department of Constitutional and Municipal Law, Moscow State Law University O.E. Kutafin,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В современных условиях нарастающей нестабильности внутренней и международной обстановки вопросы соотношения государственной безопасности и гарантированных Конституцией прав и свобод граждан приобретают особую актуальность. Исследование проблем реализации конституционных норм в режиме чрезвычайного положения позволяет выявить узкие места действующего правового регулирования и разработать рекомендации, способные предотвратить произвольное расширение полномочий органов власти. Научная новизна работы заключается в комплексном сравнительном анализе процедур введения, продления и контроля режима чрезвычайного положения и режима чрезвычайной ситуации, а также в обосновании необходимости конституционного уточнения перечня неприостанавливаемых прав и совершенствования механизмов компенсации пострадавшим. Цель исследования – систематизация существующих пробелов в федеральном законодательстве и выработка практических рекомендаций по их устранению. В качестве методологической основы использованы методы нормативно-правового анализа, сравнительно-правовой метод, контент-анализ судебной практики и международных стандартов. Структура статьи включает три раздела: анализ конституционных пробелов, оценку процедур введения и контроля режима чрезвычайного положения, а также сопоставление с международно-правовыми нормами и предложения по совершенствованию законодательства.
ABSTRACT
In the current context of increasing internal and international instability, the relationship between state security and the rights and freedoms guaranteed by the Constitution has become especially relevant. The study of the implementation of constitutional norms under a state of emergency reveals the shortcomings of existing legal regulation and enables the development of recommendations aimed at preventing the arbitrary expansion of governmental powers. The scientific novelty of this work lies in a comprehensive comparative analysis of the procedures for the introduction, extension, and oversight of both the state of emergency and the emergency situation regimes, as well as in the substantiation of the need for a constitutional clarification of the list of non-derogable rights and the improvement of compensation mechanisms for affected individuals. The aim of the study is to systematize the existing gaps in federal legislation and to develop practical recommendations for their elimination. The methodological framework is based on normative legal analysis, the comparative legal method, content analysis of judicial practice, and international standards. The structure of the article includes three sections: an analysis of constitutional gaps, an assessment of the procedures for the introduction and oversight of the state of emergency, and a comparison with international legal norms, along with proposals for improving legislation.
Ключевые слова: чрезвычайное положение; чрезвычайная ситуация; конституционные права и свободы; ограничения прав; правовой режим; федеральное законодательство; безопасность государства; правовые пробелы; контроль власти; режим ЧС.
Keywords: state of emergency; emergency situation; constitutional rights and freedoms; restriction of rights; legal regime; federal legislation; state security; legal gaps; governmental oversight; emergency regime.
В отечественной науке основное внимание уделяется анализу правовых режимов чрезвычайного и военного положения как механизма временного ограничения прав граждан. Шурыгина Ю. В. исследует правовую природу ЧП, подчёркивая, что федеральный конституционный закон № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» формулирует основания введения режима на слишком общем уровне, что приводит к разночтению в практике применения ограничительных мер [8, с. 47]. Пчелинцев С. В. детализирует понятия «ограничение» и «умаление» прав, указывая на отсутствие в Конституции РФ чёткого разграничительного критерия, что создаёт «юридические зоны неопределённости» и способствует расширительному толкованию полномочий власти [6, с. 65].
Рамазанова Е. Т. и Гасанов Г. А. проводят сравнительный анализ федеральных законов о ЧП и военном положении, отмечая, что действующие нормы не учитывают специфику современных угроз (например, пандемий или кибератак), что отражается в отсутствующих механизмах оценки соразмерности ограничений и компенсации граждан [7, с. 110–112]. Бондарь Н. С. акцентирует внимание на роли Конституционного Суда РФ в преодолении пробелов: по его мнению, практика суда допускает расширительное толкование «гарантий защиты прав» в ущерб принципу правовой определённости [2, с. 31–33].
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) устанавливает исчерпывающий перечень прав, которые не могут быть приостановлены даже в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 4): право на жизнь, свобода от пыток и бесчеловечного обращения, запрет на рабство, свобода мысли, совести и религии [11]. В Комментарии № 29 Комитета ООН по правам человека подчёркивается необходимость соблюдения принципов законности, соразмерности и недискриминации при введении временных мер [10, п. 4].
Европейская конвенция о защите прав человека не содержит собственного перечня неприостанавливаемых прав, однако в ряде решений Европейского суда (например, «А. и другие против Турции», 2009 г.) сформулированы критерии оценки соразмерности и необходимости ограничения, а также требования к мотивированному судебному контролю за действиями властей [9, п. 78–80].
Пробелы российского законодательства: отсутствие исчерпывающего перечня неприостанавливаемых прав, неопределённость критериев введения и продления ЧП, недостаток процедур компенсации.
Международная практика предлагает чёткие рамки (пакты ООН, решения ЕСПЧ) и обязательные механизмы контроля — парламентский, судебный и независимый мониторинг.
Судебная практика в России и за рубежом подтверждает, что повышение детализации норм и усиление процедурной прозрачности способствуют соблюдению баланса между безопасностью и свободами граждан.
Прежде всего стоит отделить режим чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения. В отличие от режима чрезвычайного положения, который вводится исключительно указом Президента Российской Федерации и направлен на противодействие угрозам конституционному строю и безопасности государства, режим чрезвычайной ситуации может быть установлен на уровне субъекта федерации распоряжением губернатора или иного высшего должностного лица региона. Закон о чрезвычайном положении предусматривает исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод, которые в период его действия могут быть приостановлены или ограничены: свобода передвижения, право на собрания, неприкосновенность частной жизни и другие. В свою очередь закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций не содержит механизмов приостановки гражданских свобод, его целью является организация предупредительных и ликвидационных мер — оповещения, эвакуации, медицинской помощи и возмещения ущерба. Кроме того, чрезвычайное положение вводится на ограниченный срок (не более 30 дней с возможностью продления с согласия Совета Федерации), тогда как режим чрезвычайной ситуации действует до полного устранения последствий происшествия без специальной процедуры парламентарного продления. Однако согласно фкз о чрезвычайном положении, во 2 статье которого говорится: «Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся: б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы…», так можно утверждать, что нс может служить основанием для введения ЧП. Из этого следует, что законодатель хотя и отличает чс от чп, тем не менее оставляет связь между этими понятиями. Таким образом, чрезвычайное положение ориентировано на широкомасштабные угрозы государству и сопровождается ограничением основных прав, тогда как чрезвычайная ситуация служит инструментом оперативного реагирования на техногенные и природные катастрофы без изменения правового статуса граждан.
Конституционные пробелы в регулировании прав и свобод в условиях чрезвычайного положения (ЧП) проявляются как в форме отсутствия необходимых положений, так и в форме внутренней противоречивости действующих норм. В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие в Конституции Российской Федерации (далее — Конституция РФ) чёткого перечня прав и свобод, которые не подлежат ограничению ни при каких условиях, включая режим ЧП. В отличие от международных документов, таких как Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 4), где прямо перечислены права, которые не могут быть приостановлены даже в условиях угрозы для жизни нации (например, право на жизнь, свобода от пыток, свобода совести), Конституция РФ в статье 56 ограничивается общим указанием на возможность ограничения прав, не конкретизируя, какие из них являются неотчуждаемыми.
Данный пробел был охарактеризован в научной литературе как потенциально опасный с точки зрения правоприменения. Так, Н. С. Бондарь подчёркивает, что «отсутствие закреплённого перечня прав, не подлежащих ограничению, ведёт к произвольной правовой квалификации в экстраординарных обстоятельствах и позволяет органам власти действовать за пределами конституционно допустимого» [3, с. 29].
Кроме того, существует конфликт между статьями 55 и 56 Конституции РФ. В части 2 статьи 55 устанавливается запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина. Однако часть 1 статьи 56 допускает возможность ограничения ряда прав и свобод в условиях введения ЧП. При этом критерии допустимости таких ограничений описаны крайне абстрактно: «в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя». Возникает неопределённость — как соотносится понятие «ограничения» с «умалением» прав, и по каким критериям разграничивается временный правовой режим от долговременного вмешательства в сферу основных прав.
Проблема отсутствия юридического различия между «ограничением» и «умалением» прав также была подчёркнута в исследованиях С. В. Пчелинцева. Указанный автор отмечает, что без чёткого разграничения указанных понятий невозможно выработать критерии допустимости временных мер, что влечёт за собой правовую неопределённость и усиливает риск расширительного толкования исполнительной властью собственных полномочий [6, с. 65].
Правовая неопределённость, обусловленная пробелами в конституционно-правовом регулировании чрезвычайных ситуаций, приводит к практическим трудностям в обеспечении баланса между публичной безопасностью и защитой фундаментальных прав личности. В условиях ЧП органы государственной власти получают расширенные полномочия, которые, в отсутствие чётких ограничительных рамок, могут быть использованы в ущерб принципу верховенства права.
Особенно отчётливо эта проблема проявилась в период пандемии COVID-19, когда режим повышенной готовности, введённый субъектами Федерации на основании закона № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», фактически выполнял функции режима чрезвычайного положения, но без его формального объявления в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». Таким образом, был де-факто реализован экстраординарный режим без де-юре конституционных гарантий защиты прав. Как подчёркивает Е. Т. Рамазанова, в этих условиях произошло фактическое «размывание границ между правомерным ограничением и неправомерным умалением прав», что подтвердилось многочисленными случаями произвольного ограничения свободы передвижения и вмешательства в частную жизнь без судебной санкции [7, с. 110].
Кроме того, недостаточная проработанность механизмов парламентского и судебного контроля за действиями органов исполнительной власти в условиях ЧП также усиливает риск системных злоупотреблений. По мнению Ю. В. Шурыгиной, действующее законодательство не предусматривает механизма регулярной проверки законности введённых ограничений, а также не требует мотивированного обоснования необходимости продления режима ЧП, что нарушает принципы правовой определённости и прозрачности государственной политики [8, с. 46].
Таким образом, пробелы и конфликты в конституционно-правовом регулировании ЧП создают правовую почву для нарушения принципа соразмерности, подмены понятий «ограничение» и «умаление», и ведут к реальным угрозам для реализации гарантированных Конституцией прав и свобод.
Введение чрезвычайного положения (ЧП) в Российской Федерации осуществляется Президентом РФ на основании статьи 56 Конституции РФ и Федерального конституционного закона от 30 января 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». Законирует о ЧП чётко не фиксирует исчерпывающие критерии угрозы, что создаёт правовую неопределённость: в п. 1 ст. 3 ФКЗ указано лишь, что ЧП вводится «в случае угрозы безопасности государства и (или) жизни граждан», без конкретизации пороговых значений (военного конфликта, теракта, стихийного бедствия) и без указания стандартов доказательств.
Срок первоначального действия режима ЧП не может превышать 30 дней; последующее продление допускается только с согласия Совета Федерации (ч. 2 ст. 2 ФКЗ) и не более чем на 30 дней за один раз. Однако закон не обязывает Президента публиковать обоснование необходимости каждого продления, что, по мнению И. М. Ивановой, «препятствует общественному и парламентскому контролю, снижая ответственность исполнительной власти за продление ограничительных мер» [4, с. 93].
Кроме того, отсутствуют формализованные критерии оценки соизмеримости вводимых ограничений: ни в ФКЗ, ни в конституционных комментариях не приведен перечень факторов (угрозы, охвата, времени действия, последствий для граждан), которые должны учитываться при принятии решения, что создаёт предпосылки для расширительного толкования полномочий Президента и региональных властей.
Парламентский контроль. Для продления режима ЧП требуется согласие Совета Федерации, однако Федеральный закон не устанавливает механизмов предварительного слушания или оценки альтернативных мер защиты. По мнению М. А. Ивановой, «необходима законодательная норма об обязательном представлении Президентом обоснования продления ЧП в течение трёх рабочих дней после получения отрицательного заключения Комитета СФ» [4, с. 96]. Это позволило бы улучшить прозрачность и общественный надзор.
Судебный контроль. Конституция РФ гарантирует право граждан на судебную защиту даже в период ЧП (ч. 3 ст. 55); однако, как отмечает О. В. Кузнецов, «на практике доступ к судам осложняется мерами изоляции и приостановлением работы некоторых судов в зонах действия ЧП, что фактически лишает граждан возможности обжаловать неправомерные ограничения» [5, с. 115]. При этом в ФКЗ нет положения о возможном ускоренном (особом) порядке рассмотрения дел, связанных с ограничительными мерами в период ЧП.
Механизмы компенсации. В отличие от законодательства об ответственности за ущерб при чрезвычайных ситуациях (ФЗ № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»), в законе о ЧП отсутствуют нормы о возмещении убытков граждан и организаций, понесённых вследствие правомерных или неправомерных действий властей. Е. Т. Рамазанова и Г. А. Гасанов отмечают, что «отсутствие чёткого механизма компенсации создаёт правовую пустоту, в которой пострадавшие не могут получить возмещение ни через административный, ни через судебный порядок» [7, с. 112].
Проведённый анализ конституционно-правового регулирования чрезвычайного положения выявил ключевые пробелы и противоречия: отсутствие исчерпывающего перечня неприостанавливаемых прав, нечеткость разграничения понятий «ограничение» и «умаление» свобод, а также абстрактность критериев введения и продления режима. Юридическая неопределённость создаёт предпосылки для расширительного толкования полномочий властей и фактического ущемления фундаментальных свобод граждан.
Исследование процедур введения, продления и контроля чрезвычайного положения показало, что формальные механизмы парламентского и судебного надзора работают недостаточно эффективно: решение о продлении режима принимается без обязательного мотивированного обоснования, а доступ к судам для обжалования ограничений осложнён. При этом отсутствуют отработанные нормы компенсации пострадавшим от правомерных и неправомерных действий органов власти.
Сравнительный анализ с международно-правовыми стандартами продемонстрировал, что пакты ООН и практика ЕСПЧ устанавливают конкретные перечни неприостанавливаемых прав и обязательные процедуры регулярного пересмотра введённых мер. Во избежание злоупотреблений рекомендуется: 1) внести в Конституцию РФ исчерпывающий перечень прав, не подлежащих ограничению; 2) детализировать в федеральном законе «О чрезвычайном положении» критерии угроз и порядок обоснования продлений; 3) ввести ускоренные процедуры судебного и парламентского контроля; 4) закрепить механизмы компенсации убытков граждан и организаций. Реализация этих мер обеспечит баланс между государственной безопасностью и защитой прав человека в экстремальных ситуациях.
Список литературы:
- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
- Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 02.11.2023) «О чрезвычайном положении».
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 03.04.2023) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- Бондарь Н. С. Конституционные пробелы и конфликты как отражение социальных противоречий: в контексте практики Конституционного Суда РФ // Терра Economicus. 2010. Т. 8, № 3. С. 27–34.
- Иванова М. А. Парламентский контроль в чрезвычайном режиме // Государство и право. 2018. № 12. С. 91–98.
- Кузнецов О. В. Судебный контроль введения и продления чрезвычайного положения // Правоведение. 2019. № 3. С. 112–119.
- Пчелинцев С. В. Проблемы реализации положений Конституции РФ об особых правовых режимах в федеральном законодательстве // Журнал российского права. 2003. № 11. С. 63–70.
- Рамазанова Е. Т., Гасанов Г. А. Конституционное ограничение прав и свобод человека и гражданина // Юридический вестник ДагГУ. 2020. № 1. С. 108–114.
- Шурыгина Ю. В. Чрезвычайное положение как особый правовой режим, ограничивающий отдельные права и свободы // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2022. № 3. С. 45–52.
- Case of A. and Others v. Turkey, Application No. 46221/99, European Court of Human Rights (2009).
- Human Rights Committee. General Comment No. 29: States of Emergency (Article 4). 2001.
- International Covenant on Civil and Political Rights. 1966.
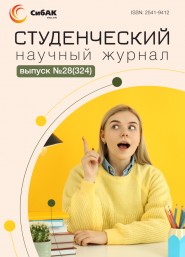

Оставить комментарий