Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 24(320)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5
ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 2015 ГОДА НА ПРАВОВУЮ ПРИРОДУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
IMPACT OF THE 2015 LAW OF OBLIGATIONS REFORM ON THE LEGAL NATURE OF OBLIGATION
Almaz Khabibullin
4th year student, Law Institute, National Research Tomsk State University,
Russia, Tomsk
АННОТАЦИЯ
В 2015 году в России была проведена масштабная реформа обязательственного права, затронувшая ключевые аспекты гражданско-правовых обязательств — от их конструкции до оснований прекращения. Несмотря на заявленные цели совершенствования законодательства, нововведения породили ряд доктринальных и практических противоречий, ставящих под сомнение традиционное понимание правовой природы обязательств.
ABSTRACT
In 2015, a large-scale reform of the law of obligations was carried out in Russia, affecting key aspects of civil-law obligations - from their design to the grounds for termination. Despite the stated goals of improving legislation, the innovations gave rise to a number of doctrinal and practical contradictions that call into question the traditional understanding of the legal nature of obligations.
Ключевые слова: обязательственное право, реформа ГК РФ, правовая природа обязательств, исполнение в натуре, пассивные обязательства, простое товарищество, кондикционные обязательства, судебное толкование.
Keywords: law of obligations, reform of the Civil Code of the Russian Federation, legal nature of obligations, performance in kind, passive obligations, simple partnership, conditional obligations, judicial interpretation.
В 2015 году была проведена достаточно масштабная реформа обязательственного законодательства. Изменения коснулись почти всего, от самой конструкции обязательства до оснований прекращения гражданско-правового договора [1]. Подобные изменения были внесены в соответствии с концепцией совершенствования общих положений обязательственного права России и обусловлены необходимостью более тщательной регламентации отдельных вопросов. К таким, в частности, относятся: вопрос о порядке применения общих положений об обязательстве при их субсидиарном применении; неполнота норм, определяющих понятие и стороны обязательства; отсутствие разграничения договорных и внедоговорных обязательств [2]. Таким количеством изменений трудно не задеть положения о правовой природе обязательства, а точнее те самые указания и косвенные ссылки на ее составляющие.
Первое на что хочется обратить внимание – это добавление внесения вклада в совместную деятельность в качестве активного действия составляющего обязательства (ст. 307 ГК РФ) [3]. Подобное нововведение вводит в заблуждения по поводу соотношения обязательств и отношений вкладчиков в товариществе. Поскольку обязанность соединения вкладов для осуществления совместной деятельности (п. 1 ст. 1041 ГК РФ) не тождественна тому, что в п. 1 ст. 307 ГК РФ называется «обязано совершить в пользу другого лица определенное действие". Следовательно, по мнению С.К. Соломина, внесение вклада в простое товарищество недопустимо рассматривать через призму гражданско-правового обязательства [4, c. 142]. Такая позиция не лишена смысла. Однако внесение вклада в совместную деятельность всё же стоит рассматривать в качестве обязательства, поскольку это обеспечивает гражданский оборот перемещения материальных благ. Это четко прослеживается в 55 главе ГК, где раскрывается обязательственная сущность отношений товарищей по внесению вкладов. Вопросы скорее вызывает то, что подобная формулировка закреплена в разделе о понятии обязательства. Отношения вкладчиков в простом товариществе имеют не только обязательственную природу, но и организационную. Указание на это должно содержаться и раскрываться в специальных нормах о простом товариществе, то есть в 55 главе ГК. А указание на них в ст. 307 ГК может вводить в заблуждение об исключительно обязательственной природе отношений между вкладчиками, и приводить к игнорированию организационного характера их деятельности.
Была поставлена под сомнение такая важнейшая характеристика обязательств как правоотношений динамики. В положениях об альтернативном обязательстве (п. 1 ст. 308.1, п. 1 ст. 320 ГК РФ) и положениях об обязанности должника возместить убытки (п. 6 ст. 393 ГК РФ) теперь закреплена идея сведения смысла обязательства только к воздержанию от совершения определенных действий и попытка их регулировать в отрыве от активных действий должника. В доктрине неоднократно отмечалось, что такие «пассивные» обязательства не могут существовать сами по себе, они всегда зависят от каких-либо активных действий должника. В противном случае обязательства утратят свойство имущественных отношений динамики. Например, хранитель вещи обязан не пользоваться хранимой вещи наряду с обязанностью хранить вещь. То есть, существование пассивных обязательств всегда обусловлено существованием в них какого-то активного действия, в отрыве от которых они существовать не могут [5, с. 15]. Потому попытки вынести этот вид обязательств под самостоятельное регулирование порождает немало вопросов и представляется весьма непростым препятствием для правоприменителя.
В связи с реформой обязательственного законодательства, пункт 2 ст. 307.1 ГК РФ стал содержать указание на то, что подраздел 1 раздела 3 ГК РФ применяется к обязательствам вследствие причинения вреда и к обязательствам вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено правилами глав 59 и 60 ГК РФ и не вытекает из существа соответствующих отношений. Пункт 3 же настоящей статьи говорит об особенностях применения общих положений об обязательствах к требованиям, связанным с применением последствий недействительности сделки Подобные положения ставит под сомнение гражданско-правовую природу отдельных видов, в частности кондикционных, обязательств. На сегодняшний день в доктрине сложилась достаточно распространенная точка зрения касаемо правовой природы реституционных требований. В доктрине ведутся споры о том, имеют ли реституционные требования обязательственную природу. Однако в настоящее время активно доказывается, что реституционное обязательство охватывается единым понятием именно кондикционного обязательства [6, с. 173]. Следовательно, учет разной правовой регламентации одних и тех же отношений приводит к вопросам о целесообразности таких нововведений и ставит под сомнение обязательственную природу отдельных явлений.
Также достаточно спорным нововведением являются положения ст. 308.3 ГК РФ, которые касаются возможности принуждения должника к исполнению обязательства в натуре. Возможно, таким образом, законодатель дает свой ответ на дискуссию в доктрине об отнесении обязанности исполнить обязательство в натуре к гражданско-правовой ответственности. В таком случае должны были утратить силу нормы ст. 396 - 398 ГК РФ, регулирующие аналогичные отношения. Однако этого не произошло, и встает вопрос не только о целесообразности введения новой аналогичной нормы, но и ее соответствие правовой природе обязательств. Как отмечал С.К. Соломин, допустить существование п. 1 ст. 308.3 ГК РФ – значит допустить ситуацию, при которой неисправный должник добровольно предлагает кредитору возместить убытки в полном объеме, однако последний, отказавшись от принятия такого возмещения, обращается в суд с требованием исполнения обязательства в натуре. Суд удовлетворяет данное требование, несмотря на желание должника возместить кредитору все понесенные им убытки. Более того, суд присуждает штраф в пользу кредитора на случай неисполнения судебного акта. Кредитор, зная о том, что должник откажется от исполнения обязательства в натуре, каждый раз будет рассчитывать на получение штрафа. Автор считает, что подобная ситуация представляется абсурдной и делает вывод, что эти нормы ст. 308.3 ГК РФ, как и многие другие нормы данной реформы, являются мертворожденными и не найдут своего закрепления в практике правоприменения [4, с. 175]. Такая позиция еще один наглядный пример заблуждения, вызванный отсутствием надлежащей регламентации соответствующих положений. При этом стоит отметить, что Верховный Суд дал свой ответ на описанную автором ситуацию в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. Так, согласно п.23 настоящего акта, по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства [7]. То, что Верховный Суд дал разъяснения по применению отдельных положений реформы, отнюдь не делает ее удачной. До официального толкования, которое было дано спустя 6 лет, несовершенство нормы могло создавать трудности в уяснении его истинного содержания и порождать проблемы для правоприменителя.
Реформа 2015 содержит немало спорных положений и в отношении других институтов обязательства, не связанных с его правовой природой. При этом вряд ли законодатель ставил своей целью создать такого рода коллизии и пробелы, а уж тем более покушаться на изменение правовой природы обязательств. Поскольку законодатель стремится к улучшению механизма правового регулирования, он принимает меры по закреплению и учету ссылок на важнейшие признаки обязательства, которые помогают в понимании правовой природы обязательства. Однако введением подобных положений законодатель обесценивает львиную долю своих усилий по учету основных признаков обязательств и косвенных ссылок на его правовую природу. Вводя совершенно противоречивые изменения, которые вводят в заблуждение, он собственноручно усложняет задачу понимания правовой природы обязательства и применения соответствующих положений правоприменителем.
Список литературы:
- Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации"// документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 28.06.2025).
- Концепция реформирования обшей части обязательственного-права // М 2018 URL: һttp:// www.privlaw.ru/sovet-po-kodif'kacii-conceptions (дата обращения: 28.06.2025).
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 28.06.2025).
- Соломин С.К. Новеллы обязательственного права: постановка некоторых вопросов // Закон. – М.: ИГ "Закон", 2015. № 9. - 142-145 c.
- Белов, В. А. Обязательственное право: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 56 с. — URL: https://urait.ru/bcode/433988/p.14 (дата обращения: 29.06.2025).
- Соломина Н.Г Обязательство из неосновательного обогащения: понятие, виды, механизм возмещения. // М., 2009. - . 147 – 171 с.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"// документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 29.06.2025).
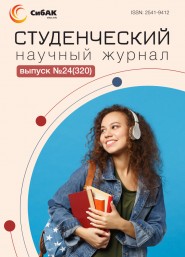

Оставить комментарий