Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 24(320)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
MUNICIPAL REGULATION: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS
Vladimir Alexandria
Student, Department of Constitutional and Administrative Law, Siberian Law University,
Russia, Omsk
Vladimir Bashurov
Scientific supervisor, PhD in Law, Associate Professor, Siberian Law University,
Russia, Omsk
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена эволюции муниципального нормотворчества в исторической перспективе. Анализируются ключевые этапы развития местного самоуправления и их влияние на формирование системы муниципальных нормативных правовых актов. Особое внимание уделяется периодам реформ, когда происходили значительные изменения в компетенции органов местного самоуправления и, соответственно, в их нормотворческой деятельности. Прослеживается связь между политическими, экономическими и социальными процессами в стране и содержанием муниципальных правовых актов.
ABSTRACT
The article is devoted to the evolution of municipal rulemaking in a historical perspective. The key stages of the development of local self-government and their impact on the formation of the system of municipal regulatory legal acts are analyzed. Special attention is paid to the reform periods, when significant changes took place in the competence of local governments and, consequently, in their rule-making activities. There is a connection between the political, economic and social processes in the country and the content of municipal legal acts.
Ключевые слова: муниципальное нормотворчество, местное самоуправление, история развития, носители власти.
Keywords: municipal rulemaking, local self-government, history of development, bearers of power.
Развитие муниципального нормотворчества имеет глубокие исторические корни. Изучение прошлого опыта позволяет лучше понять современные тенденции и проблемы в сфере разработки и принятия нормативных актов на местном уровне. Исторический анализ выявляет этапы становления и эволюции муниципального нормотворчества, отражая изменения в политической, экономической и социальной сферах общества.
Рассмотрение исторических аспектов муниципального нормотворчества необходимо для формирования целостного представления о его сущности и роли в системе местного самоуправления. Изучение опыта прошлых лет помогает избежать ошибок, учитывать лучшие практики и адаптировать их к современным условиям. Историческая перспектива позволяет оценить эффективность различных форм и методов муниципального нормотворчества, определить факторы, влияющие на его развитие и результативность.
Анализ исторического пути муниципального нормотворчества способствует совершенствованию нормативной базы местного самоуправления, повышению качества принимаемых решений и укреплению демократических принципов участия граждан в управлении территорией.
В нынешних реалиях общественной жизни, муниципальное нормотворчество нередко воспринимается как вторичное по отношению к государственному [1]. Это своего рода граница дозволенных действий для органов местного самоуправления, установленная государством для решения конкретно очерченного им же перечня вопросов. Независимость муниципальных образований проявляется лишь с согласия государственной власти [2]. Но стоит отметить, что подобное положение вещей существовало не всегда.
На протяжении всей истории человечества самоуправление в разных проявлениях играло важную роль [3]. Древнейшие сообщества, такие как первобытные общины, демонстрируют ранние формы самоуправления. Нормы поведения, впоследствии ставшие правом, возникали из устоявшихся обычаев и традиций, передаваемых из поколения в поколение.
Соблюдение этих правил обеспечивалось влиянием и уважением к лидерам, наиболее опытным и сильным членам общины. Все вопросы, от обеспечения ресурсами до организации защиты, решались самостоятельно. Наиболее важные и сложные проблемы обсуждались коллективно или с советом старейшин.
Органы власти, такие как советы старейшин и вожди, также избирались независимо. Ошибки в управлении несли последствия для всех членов общины и могли приводить к смене руководства. В этот период создание правил поведения для членов общины определялось представлениями о выгоде и нуждах всего племени и было в основном прямым и непосредственным.
С возникновением государственности значение местных общин в общественной структуре подвергалось непрерывной трансформации. В то время как ранее все аспекты существования общества обеспечивались внутренними ресурсами территориальных групп, с формированием государства обязанности местных сообществ (полностью или частично) перешли к нему, порой посредством принудительного захвата. Претерпевали изменения и полномочия местных сообществ в области законотворчества.
В период существования Киевской Руси, вече представляло собой распространенную форму демократии, функционировавшую во многих регионах и областях. Как и в древнейших народных собраниях, где присутствовала племенная знать, в Киевской Руси высшие слои общества, такие как князья, церковные иерархи, бояре и состоятельные торговцы, неизменно участвовали в вече. Однако древнерусская знать не имела достаточного влияния, чтобы полностью контролировать вече или препятствовать исполнению его решений [4].
Как отмечает И.Я. Фроянов, участники вечевых сходов представляли собой разнородную социальную группу, включающую как простых граждан, так и представителей знати. При этом, голос народа на вече был сильным и влиятельным, зачастую заставляя князей и других именитых деятелей идти на компромиссы.
Вече, являясь высшим органом власти в городах-государствах Руси во второй половине XI – начале XIII веков, позволяло народу оказывать влияние на политические процессы в желаемом для себя русле [5]. Таким образом, народное собрание было не просто формальным институтом, но и реальным инструментом народовластия.
Важно понимать, что вече не являлось институтом с непрерывной работой. В промежутках между народными собраниями функции управления переходили к совету знати. Этот совет занимался предварительным изучением всех вопросов, подлежащих рассмотрению на вече, и разрабатывал проекты постановлений для народного собрания.
Вечевые собрания можно рассматривать как раннюю форму прямого народного законотворчества, предвосхищающую современные практики. Подобно нынешним процедурам, решения, принятые на вече, имели обязательную силу для городских властей и всех жителей. При этом, иные способы создания местных нормативных актов в источниках того времени не зафиксированы.
История народных собраний в Древней Руси, зафиксированная в источниках, демонстрирует их эволюцию. Местные и сельские сходы, кончанские сходы в растущих городах, преобразовались в феодальную форму самоуправления – племенное вече. Этот институт выступал высшим органом управления и суда для свободных членов племени [6]. Со временем термин "вече" приобрел многозначность, обозначая совещания знатных особ, собрания рядовых горожан, военные советы, а порой и подпольные сговоры или бунты [7]. Это указывает на широкий спектр вопросов, в которых вече могло выступать законодателем: объявление войны и заключение мира, ратификация договоров и утверждение правовых актов, приглашение князей на правление и их изгнание. Фактически, вече обладало существенными полномочиями в решении ключевых вопросов жизни общины и княжества.
Завоевание Руси татарами явилось переломным моментом, определившим дальнейшее развитие страны и заложившим основы новой системы управления. Татарское нашествие впервые столкнуло русские земли с необходимостью безоговорочного подчинения централизованной власти. Традиционные формы вечевого самоуправления практически мгновенно исчезли.
После монгольского нашествия экономическое и культурное процветание большинства русских городов (за исключением Новгорода и Пскова) пошло на спад. Развитие городов остановилось, а восстановленные поселения приобрели черты, более свойственные Востоку, чем Западу. В исторических документах того времени отсутствуют свидетельства о принятии решений населением или о существовании органов местного самоуправления. Самостоятельное создание законов на местах было утрачено.
Развитие городского права в западных странах и в России имело принципиально различные траектории. Как верно подметила Т.В. Кашанина, если западноевропейское городское право отражало вольность городских жителей, то в России, в период после монгольского нашествия, оно, напротив, демонстрировало свободу государства (в лице великих князей, а затем и царей), которое рассматривало себя как единственного и полновластного собственника земли [8].
Ввиду того, что понятие свободы было чуждо для России, особенно в средневековый период, городское право в первую очередь выполняло полицейские функции. То есть, оно представляло собой свод правил, направленных на установление правопорядка, угодного верховной государственной власти.
В указанный период все обязательные для исполнения решения принимались без какого-либо участия населения. Самостоятельное нормотворчество на местном уровне было полностью вытеснено государственным регулированием.
В Древней Руси поселения отличались скудностью и располагались на значительном удалении друг от друга. Жители городов не смогли обрести сословную независимость и влияние. В связи с этим, когда в XVI веке Иван Грозный предложил городскому населению возможность самоуправления и участия в решении вопросов, касающихся финансов, экономики и даже судопроизводства, многие города продемонстрировали свою неподготовленность и отказались от предложенных правителем возможностей [9].
Петр I провел ряд реформ, направленных на стимулирование развития местного самоуправления: 1) было осуществлено территориальное деление на губернии, провинции и дистрикты (уезды); 2) были учреждены городские магистраты; 3) за каждым городом было закреплено право самостоятельного управления городской территорией; 4) управление общинами было передано самим общинам и т.д. В 1699 году был издан указ, предусматривающий самоуправление городов и выборы бургомистров.
Тем не менее, исторические источники того времени не содержат свидетельств о прямом нормотворчестве. Все решения принимались местными органами власти, которые постепенно превратились в бюрократический элемент государственного аппарата. Выборные должностные лица, в свою очередь, выполняли преимущественно государственные функции [10].
Эпоха правления Екатерины II по праву признается важным этапом в эволюции российской системы самоуправления. В этот период были сформированы базовые принципы местного самоуправления, которые нашли отражение в законодательных актах, таких как "Учреждение для управления губерний Всероссийской империи" (1775 г.), "Жалованная грамота дворянству" (1785 г.) и "Грамота на права и выгоды городам Российской империи" (1785 г.). Эти документы преобразовали структуру местных органов власти, внедрив принципы самоуправления, основанные на сословной принадлежности.
В результате возникли новые формы представительной власти на местном уровне, в частности, городское собрание, общая городская дума и Шестиглавая дума. Впервые было установлено наличие городского бюджета [11]. Хотя прямого нормотворчества в тот период не было, ключевые решения на уровне муниципалитетов принимались Шестиглавой думой.
Круг вопросов, регулируемых ее нормотворческой деятельностью, был весьма обширен и включал в себя:
1) прокорм и содержание городских жителей;
2) развитие системы общественного призрения (различных социальных
и просветительских учреждений: школ, больниц, приютов, богаделен и т. п.);
3) предотвращение ссор и тяжб с окрестными городами и селениями;
4) сохранение в городе мира, тишины и согласия;
5) наблюдение порядка и благочиния;
6) обеспечение города привозом необходимых припасов;
7) охрана городских зданий, поддержание в должном состоянии городских площадей, амбаров и магазинов;
8) приращение городских доходов;
9) разрешение сомнений и недоразумений по ремеслам и гильдиям [12].
Среди государственных и правовых преобразований второй половины XIX века в Российской империи особое значение имели Земская реформа 1864 года и Городская реформа 1870 года. Эти реформы стали основой для создания всесословных органов самоуправления на местах. По мнению русского исследователя В. М. Грибовского, правительство, внедряя самоуправление, исходило из концепции, согласно которой самоуправление не является частью государственной системы управления [13].
Государство делегировало самоуправляющимся единицам полномочия по решению местных хозяйственных вопросов, которые не входили в сферу компетенции государства. Таким образом, реформы предполагали разграничение функций между центральной властью и местными органами самоуправления, предоставляя последним большую самостоятельность в управлении территориями. Это способствовало развитию гражданского общества и участию населения в решении местных проблем.
Иную позицию занимали приверженцы государственной концепции самоуправления. Например, А. Градовский, рассматривая самоуправление как явление политическое, утверждал: "В случае, когда самоуправление представляет собой систему внутреннего управления, при которой государство делегирует часть своих функций местному населению, логично заключить, что последние должны осуществлять их, обладая правами, аналогичными государственным органам" [14].
Фактически, органы местного самоуправления оказались под надзором государственных служащих не только в отношении соответствия их действий закону, но и с точки зрения оценки необходимости предпринимаемых мер при выполнении ими своих обязанностей.
С.Ю. Витте, занимавший пост министра финансов России, охарактеризовал контрреформы следующим образом: "Земские учреждения, созданные в 1890 году, утратили всякую независимость и были поставлены под строгий административный контроль" [15].
Другими словами, процесс принятия местных нормативных актов в тот период носил во многом формальный характер и требовал одобрения, а иногда и предварительного разрешения, со стороны государственных чиновников для принятия тех или иных решений.
Представление о нормотворчестве как об исключительном полномочии государства, особой форме государственной деятельности, характерно как для советского времени, так и для этапа становления местного самоуправления в Российской Федерации.
Например, Н.П. Воронов рассматривал нормотворческую деятельность местных органов власти, таких как Советы депутатов трудящихся, принимая во внимание их положение в государственной системе управления, как неотъемлемую часть нормотворчества Советского государства [16].
Расширение полномочий местных органов власти за счет повышения значимости актов, прежде всего представительных органов – местных Советов, отмечалось в начале 1980-х годов. Однако правотворчество на местном уровне оставалось по сути государственным, полностью контролируемым вышестоящими органами государственной власти. Иерархия Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов пронизывала всю государственную структуру сверху донизу.
В советское время произошло отчуждение граждан от власти. За семидесятилетний период население привыкло к повиновению, а не к участию в принятии решений. Это привело к формированию у большинства устойчивого потребительского отношения, безразличия и пассивности, которые отчетливо проявляются и в современной ситуации. Люди привыкли ожидать, что государство несет ответственность за обеспечение их социального и материального благополучия.
Впервые определение издания нормативных актов местного уровня как отдельной формы правового творчества было предложено в Законе РСФСР от 6 июля 1991 года № 1550-I "О местном самоуправлении в РСФСР" (далее - Закон № 1550-I), который впервые установил правовые основы местного самоуправления.
В частности, согласно части 1 статьи 7 Закона № 1550-I, местные Советы и соответствующие административные структуры получили собственные полномочия. В то же время, органы государственной власти и управления (ч. 4 ст. 7) не имели права самостоятельно вмешиваться в вопросы, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления. В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона № 1550-I, органы государственной власти и управления края, области, автономной области, автономного округа не могли принимать решения, не предусмотренные законодательством, регулирующие деятельность органов местного самоуправления.
В положениях упомянутого Закона № 1550-I четко прослеживается административно-командный подход к взаимодействию с местными органами власти. К примеру, ограничение на вмешательство государственных структур в вопросы местного значения, (в ч. 4 ст. 7 Закона № 1550-I) имело исключения, касающиеся ситуаций, когда такое вмешательство (предусмотренное законодательством) оправдывалось интересами государственной и общественной безопасности, поддержания порядка, защиты здоровья населения, а также прав и свобод граждан. Более того, в соответствии с ч. 11 ст. 18 Закона № 1550-I, решения местных Советов, расходящиеся с законодательством, могли быть аннулированы вышестоящими Советами народных депутатов. Аналогично, акты местной администрации, противоречащие законам и решениям местных Советов, могли быть отменены вышестоящим исполнительно-распорядительным органом (ч. 4 ст. 33 Закона № 1550-I). Само существование вышестоящих государственных структур подразумевало подчиненность им органов местного самоуправления, тем самым ограничивая их независимость в административном порядке. Фактически, была сохранена вертикаль государственной власти, а нормотворческая деятельность органов местного самоуправления осуществлялась под жестким контролем со стороны государства.
Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, закрепившей институт местного самоуправления (гл. 8) и определившей органы местного самоуправления как независимый инструмент реализации власти народа (ч. 2 ст. 3), не входящий в систему государственных органов (ст. 12), привело к изменению понимания местного (муниципального) нормотворчества.
В федеральных законах получило развернутое толкование конституционное положение об автономии местного самоуправления, в том числе и право на издание муниципальных нормативных актов. Согласно статье 19 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Фед. Закон № 154-ФЗ), местные власти и должностные лица в рамках своей компетенции утверждали или издавали правовые документы.
Также была установлена концепция «народной законодательной инициативы» (статья 25 ФЗ № 154), которая обязывала местные органы власти рассматривать проекты правовых актов, касающихся вопросов местного значения и предложенных населением, на открытых заседаниях с участием представителей общественности. Результаты таких обсуждений подлежали обязательной публикации.
Непосредственное принятие правового акта жителями было предусмотрено исключительно для устава муниципального образования (часть 2 статьи 8, статьи 22 и 24 Фед. Закона № 154-ФЗ). Принудительная отмена муниципального правового акта могла быть осуществлена только через судебное разбирательство, в случае признания его противоречащим Конституции Российской Федерации или действующему законодательству (статья 49).
Даже беглый взгляд на эволюцию муниципального нормотворчества позволяет выделить ключевые этапы его историко-правового развития.
Истоки местных норм в традициях и обычаях общины - период прямого нормотворчества и возникновения опосредованного нормотворчества, осуществляемого советами старейшин (время возникновения славянских племен остается дискуссионным, датировки варьируются от XVIII в. до н. э. до VI в. н. э.).
Сужение сферы местного нормотворчества в эпоху формирования государства (образование славянских государств датируется VII–IX вв. н. э.).
Наивысший подъем прямого местного нормотворчества в период вечевого самоуправления Киевской Руси (вторая половина XI - начало XIII в.).
Полное прекращение местного нормотворчества во время монголо-татарского ига (вторая половина XIII -XV в.).
Реализация городского нормотворчества под строгим контролем государства в период укрепления самодержавия. Местное нормотворчество полностью вытеснено государственным. Реформы Ивана Грозного и Петра I- XVI - первая половина XVIII в.
Нормотворческая деятельность местных представительных органов - реформы Екатерины II (вторая половина XVIII в.).
Расширение области местного нормотворчества посредством передачи государством самоуправляющимся единицам (земским и городским органам) полномочий по управлению местными хозяйственными делами, появление нормотворчества местных исполнительных органов (государственно-правовые реформы XIX в.: Земская реформа 1864 г. и Городская реформа 1870 г.).
Интеграция государственных и местных структур в советское время под эгидой всеобщего народовластия, местное нормотворчество рассматривается как часть государственного (1917 – начало 90-х гг. XX в.).
Этап формирования муниципального нормотворчества органов местного самоуправления и форм непосредственного нормотворчества – постсоветские преобразования (начало 90-х гг. XX в. - настоящее время).
Становление и эволюция муниципального нормотворчества в историческом контексте заключались в стремлении к балансу между местным сообществом и государственной властью [17]. История демонстрирует, что местное самоуправление и его нормотворческая деятельность испытывали периоды расцвета и упадка, а также подвергались попыткам полного подавления или превращения в формальный институт с минимальным влиянием на политику. Однако, ограничивая развитие местного самоуправления, государство сталкивалось с нестабильностью, протестами и необходимостью усиления репрессивных мер.
Историко-правовой анализ траектории развития муниципального нормотворчества показывает его значительные изменения. Во-первых, спектр вопросов, решаемых местным сообществом самостоятельно, сократился от максимально широкого до минимально необходимого, определяемого государством. Во-вторых, произошел переход от непосредственного нормотворчества, осуществляемого населением, к опосредованному, реализуемому специально созданными органами.
Учитывая изложенное, можно утверждать, что муниципальное правотворчество служит фундаментом для развития государства и нередко выступает в качестве эффективного средства преодоления кризисных ситуаций. Оно способствует снижению остроты общенациональных проблем, обеспечивает процветание местных сообществ, которые, в свою очередь, формируют народ, являющийся прямым носителем власти и субъектом непосредственной демократии.
Список литературы:
- Чиркин В. Е. Государственное и муниципальное управление: учеб. Пособие. М.: 2003. – 70 c.
- Антонова Н. А. Правотворчество органов местного самоуправления. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. – 52 с.
- Лебедев П. Н. Об управлении общественными процессами // Правоведение. 1966. № 3, -12 с.
- Сергеевич В. И. Древности русского права: в 3 т. Т. 1: Территория и население. М.: Зерцало, 2006. -142 с.
- Фроянов И. Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов // Вопр. истории. 1991. № 6. -3-15 с.
- Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): курс лекций. М.: 2005.
- Сергеевич В. И. Древности русского права. М.: Зерцало, 2006. -542 с.
- Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. М.: 2004. – 250 с.
- Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1991. Кн. VII. Т. 13. – 48, 108 с.
- История государственного управления в России / под общ. ред. Р. Г. Пихои. М.: 2001. -82 с.
- Анимаза Е. Г., Тертышный А. Т. Основы местного самоуправления. М.: 2000. -41 с.
- Еремян В. В., Федоров М. В. Местное самоуправление в России (XII–XX вв.). М., 2001. -126 с.
- Грибовский В. М. Государственное устройство и управление Российской империи (из лекций по русскому государственному и административному праву). Одесса, 1912.
- Градовский А. Системы местного управления на Западе Европы и в России // Градовский А. Собр. соч. СПб., 1904. Т. 9. - 213 с.
- Горный М. История местного самоуправления в России // Местное самоуправление. Проблемы и перспективы. СПб., 1997. - 37 с.
- Воронов Н. П. Нормативная деятельность местных Советов депутатов трудящихся: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1970. - 5 с.
- Батанов А. В. Современный конституционализм и муниципальная власть: концептуальные основы и факторы становления // Сб. ст. Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Киев, 2007.
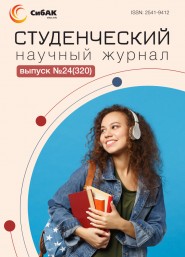

Оставить комментарий