Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 19(315)
Рубрика журнала: Экономика
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7, скачать журнал часть 8, скачать журнал часть 9, скачать журнал часть 10, скачать журнал часть 11
ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИИ: КАК ЗНАНИЕ СТАНОВИТСЯ ТОВАРОМ
АННОТАЦИЯ
Информация превратилась в один из главных ресурсов XXI века — наряду с трудом, капиталом и землёй. В этой статье рассматривается, как знание постепенно стало товаром: чем обусловлен этот процесс, какие экономические механизмы им управляют, и какие риски он несёт. Особое внимание уделено проблеме информационной асимметрии, теоретическим моделям Акерлофа и Стиглица, а также понятию информационной ренты — прибыли, получаемой за счёт обладания эксклюзивными данными.
Ключевые слова: информация, асимметрия, рынок лимонов, инсайдерская аналитика, цифровая экономика.
ВСТУПЛЕНИЕ
Долгие века экономика вращалась вокруг трёх столпов: труда, земли и капитала. Позже, в XX веке, к ним добавили предпринимательство — как способность соединять ресурсы и брать на себя риск. Но в XXI веке появился новый фактор, который невозможно ни потрогать, ни исчерпать, но без которого рушится вся конструкция современного производства. Это — информация.
Её вес в экономике уже давно перешёл из разряда «дополнительного» в фундаментальный. По данным Всемирного банка, за период с 1995 по 2022 год доля отраслей, связанных с обработкой, хранением и передачей информации, выросла в мировом ВВП с 8% до более чем 22%. В экономиках США и Южной Кореи сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) отвечает до 30% прироста производительности. Отчёт McKinsey Global Institute за 2023 год уточняет: около 70% стоимости, создаваемой в таких отраслях, как финансы, биотехнологии и e-commerce, приходится именно на анализ и монетизацию данных.
Информация становится товаром — но товаром особого рода. Она неконкурентна (то есть не исчезает при потреблении) и неривальна (её ценность зависит не от количества, а от контекста и применения). И тем не менее, в эпоху переизбытка данных и дефицита внимания появляется новая форма ресурса: структурированное, проверенное, заранее интерпретированное знание. И это знание можно купить. Продать. Спрятать. Арендовать.
Мы больше не просто “работаем с информацией”. Мы живём в системе, где знание — это актив, топливо, мера власти. Оно решает, кто будет богат, а кто останется в догоняющих. В этом контексте информационное неравенство перестаёт быть метафорой. Оно становится новой формой имущественного неравенства. В экономике, где решает не то, сколько у тебя станков, а какие у тебя данные и модели, барьеры доступа к информации равны барьерам к самому будущему.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
В 1970 году Джордж Акерлоф опубликовал статью, которая перевернула представление об идеальном рынке. Он рассматривал ситуацию на рынке подержанных автомобилей: продавцы обладают знанием о скрытых дефектах своих машин, тогда как покупатели — нет. Возникает информационный перекос. В условиях такой асимметрии рациональный покупатель не готов платить полную цену, опасаясь наткнуться на «лимон» — автомобиль с серьёзными скрытыми недостатками.
Результат предсказуем и тревожен: если риск высок, то даже качественные машины не удаётся продать по справедливой цене. Владельцы хороших авто покидают рынок, а остаются только «лимоны». Это явление получило название adverse selection — неблагоприятный отбор.
Хотя изначально модель касалась авторынка, принципы легко экстраполируются на другие секторы:
– рынок труда: соискатель знает свои реальные навыки и мотивацию, но работодатель видит только диплом и резюме. Возникает переоценка выпускников престижных вузов — не потому что они гарантированно лучше, а потому что бренд выступает заменителем достоверной информации;
– финансовые рынки: по данным отчёта FINRA за 2021 год, 62% начинающих инвесторов не способны правильно интерпретировать базовые рисковые метрики, такие как волатильность или коэффициент Шарпа. Это ведёт к тому, что рискованные активы перепродаются с наценкой — просто потому, что покупатель не осознаёт, что покупает;
– образование: платформа может быть посредственной, но если она носит громкое имя — MIT, Стэнфорд, МГУ — потребитель готов платить, не разбираясь в содержательности.
Результат один: повышение транзакционных издержек, искажение рынка, вытеснение добросовестных игроков. Это — логика распада.
Джозеф Стиглиц, соавтор новой институциональной теории, показал: рынки не сдаются. Они эволюционируют, создавая адаптивные механизмы, с помощью которых можно компенсировать асимметрию информации.
Один из них — сигналы. Это действия, предпринимаемые информированной стороной, чтобы доказать свою надёжность. Например:
– степень MBA становится сигналом управленческой квалификации, независимо от содержания программы;
– высокая цена может сама по себе служить сигналом качества в люксовом сегменте;
– сертификаты от Google*, Y Combinator и других крупных платформ — не столько знания, сколько пропуск в определённое сообщество.
С другой стороны, экраны инициируются менее информированной стороной, которая стремится добыть больше данных о контрагенте. Это:
– требования медобследования при оформлении страховки;
– кейсовые интервью и тестовые задания на собеседованиях;
– рейтинговые системы на маркетплейсах, таких как OZON или YouDo.
Ниже — краткая таблица различий:
Таблица 1.
Отличия сигналов и экранов при информационной асимметрии
|
Категория |
Сигналы |
Экраны |
|
Кто инициирует |
Информированная сторона (продавец, кандидат) |
Менее информированная сторона (покупатель, работодатель) |
|
Цель |
Продемонстрировать надёжность |
Проверить, заслуживает ли другая сторона доверия |
|
Примеры |
Диплом MBA, цена, членство в клубах |
Тесты, рейтинги, анкеты, проверки |
Но важнейшее последствие информационной асимметрии — информационная рента. Это тип прибыли, который возникает не за счёт ресурсов, а за счёт знания. Примеры многочисленны и наглядны:
– в деле SEC против Раджа Раджаратнама (основатель Galleon Group), суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Фонд получил более $60 млн прибыли за счёт инсайдов, полученных от информаторов в Intel и других корпорациях;
– Netflix вложил свыше $1 млрд в аналитику поведения пользователей, что позволило оптимизировать производство контента и снизить маркетинговые издержки;
– фонд Medallion компании Renaissance Technologies показывал доходность свыше 66% годовых, используя алгоритмические стратегии, основанные на недоступных обычным трейдерам паттернах.
Такие кейсы демонстрируют, что в цифровую эпоху основное конкурентное преимущество — это не активы, не люди, не даже капитал, а уникальный доступ к информации и способность её интерпретировать.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИМЕРЫ «ТОВАРИЗАЦИИ» ИНФОРМАЦИИ
Процесс превращения информации в товар особенно ярко проявляется там, где возникает чёткое разграничение доступа. На финансовых рынках это становится почти физически ощутимым. Bloomberg Terminal — профессиональный инструмент, доступ к которому стоит более $24 000 в год — не просто база данных. Это источник моментального доступа к новостям, котировкам, аналитике и событиям в реальном времени, когда каждая секунда способна решить судьбу сделки. Те, кто подключён к этим потокам, живут в будущем. Те, кто читает новости на открытых ресурсах, живут в прошлом — и платят за это.
Информационное преимущество здесь превращается в капиталотому что пока розничный инвестор только формирует своё мнение, профессионал уже купил и продал.
Но не только биржа работает по такому принципу. Big Tech — корпорации масштаба Google*, Meta (признана в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена), Amazon — ежедневно перерабатывают объёмы данных, которые невозможно себе представить. Facebook (признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена) собирает информацию более чем по 50 параметрам: интересы, геолокация, время просмотра, клики, социальные связи. Это не просто слежка — это создание цифрового двойника, по которому строится предиктивная модель поведения. Google* в 2023 году получил более $220 миллиардов выручки от рекламы — почти 80% всей выручки Alphabet. Эти цифры говорят сами за себя: доступ к поведенческому профилю пользователя = рыночное преимущество.
Чем больше ты знаешь о человеке, тем точнее можешь предсказать и продать ему что-то, даже если он сам ещё не знает, что хочет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате информация перестаёт быть только движущей силой экономического роста — она становится механизмом социальной стратификации. Возникает новая форма неравенства. Одни получают доступ к проверенным, структурированным и упреждающим данным. Другие — к обрывкам, к тому, что уже устарело в момент появления.
Хочется подчеркнуть, что будущее принадлежит не только тем, кто умеет добывать данные, но тем, кто умеет осмыслять и капитализировать их: в продукт, в решение, в точную стратегию. В этом смысле знание превращается в форму власти, а аналитик — в современного политика или полководца, только без армии и трибуны.
*По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами Google является нарушителем законодательства Российской Федерации – прим. ред.
Список литературы:
- Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм // Вехи экономической мысли. Т. 4. Теория фирмы. – М.: Экономика, 2003. – С. 459–482.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Т. 1: Сетевое общество. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.
- Стиглиц Д. Экономика государственного сектора. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 686 с.
- Тапскотт Д. Экономика блокчейна: как технологии распределённого реестра изменят деньги, бизнес и мир. – М.: Эксмо, 2019. – 400 с.
- Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.
- Степанов С.В. Информационная асимметрия как источник рыночных неэффективностей // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2021. – № 2. – С. 35–47.
- Иванов И.И. Информационные технологии и трансформация экономических институтов // Экономические науки. – 2020. – № 6. – С. 22–29.
- Панкратова Л.Н. Информационные ресурсы как фактор устойчивого развития экономики // Журнал «Региональная экономика». – 2022. – № 4. – С. 88–95.
- Доклад ЮНКТАД о цифровой экономике в 2021 году: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.investinregions.ru/analytics/a/materials-109636/ (дата обращения: 15.05.2025).
- Минцифры России. Концепция регулирования рынка данных в Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://digital.gov.ru (дата обращения: 16.05.2025).
- Росстат. Доля информационных услуг в структуре ВВП РФ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13262 (дата обращения: 15.05.2025).
- McKinsey Global Institute. The Data-Driven Enterprise of 2025: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-data-driven-enterprise-of-2025 (дата обращения: 21.05.2025).
- World Bank Data. Information and Communication Technology (ICT) value added (% of GDP): [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TELE.ZS (дата обращения: 20.05.2025).
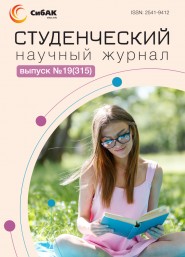

Оставить комментарий