Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 15(311)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
PROBLEMATIC ASPECTS OF CALCULATING THE LIMITATION PERIOD
Alina Kolesova
master's student, Department of Civil Law and Process, Chelyabinsk State University,
Russia, Chelyabinsk
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована роль, отведенная срокам исковой давности в контексте обеспечения прав и законных интересов граждан и обеспечения стабильности гражданского оборота. Проанализированы правовые основы института исковой давности и выявлены ключевые аспекты исчисления и применения данных сроков.
Сделан вывод о несовершенстве действующего законодательства в данной сфере и предложен ряд мер по оптимизации нормативной правовой базы и гармонизации практики правоприменения по анализируемому вопросу.
ABSTRACT
The article substantiates the role assigned to the statute of limitations in the context of ensuring the rights and legitimate interests of citizens and ensuring the stability of civil turnover. The legal foundations of the statute of limitations are analyzed and the key aspects of calculating and applying these deadlines are identified.
The conclusion is made about the imperfection of the current legislation in this area and a number of measures are proposed to optimize the regulatory framework and harmonize law enforcement practices on the analyzed issue.
Ключевые слова: исковая давность, суд, исчисление, истец, ответчик, защита нарушенных прав, сроки в гражданском праве, объективный срок, гражданский оборот.
Keywords: statute of limitations, court, calculation, plaintiff, defendant, protection of violated rights, terms in civil law, objective term, civil turnover.
Вряд ли будет подвергнут сомнению тот факт, что институт сроков занимает одно из важнейших мест в гражданском праве России, выступая в качестве действенного рычага стабилизации гражданского оборота и обеспечения надлежащей и своевременной защиты прав и законных интересов его участников [1, с. 45].
Внедрение в законодательную материю института сроков исковой давности обусловлено также тем, что при отсутствии каких-либо объективно требуемых ограничений действия права на защиту велики риски полной утраты доказательств по делу, и, кроме того, свидетели могут уже забыть значимые для дела обстоятельства и факты.
Учитывая изложенное, вряд ли была бы уместна сама постановка вопроса о наличии продуманного механизма защиты прав и законных интересов субъектов права. Кроме того, так или иначе, все гражданские правоотношения подлежат урегулированию посредством внедрения в законодательство или заключаемый между сторонами договор тех или иных показателей количественного характера (в частности, сроки исполнения контрагентами принятых на себя обязательств, цена договора и т.д.) [2, с. 89].
Наступление или истечение соответствующих временных интервалов сопряжено с правовыми последствиями в виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений - данное обстоятельство является основанием для исследователей, к примеру, С.В. Романчука, И.Б. Новицкого, трактующих срок исковой давности в качестве юридического факта.
Последний, в частности, отмечал в данном отношении, что при неподаче заинтересованным лицом искового заявления в пределах установленного времени его право на обращение в суд фактически нивелируется.
Сам законодатель идентифицирует срок исковой давности как срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено [3]. Лаконичность данного определения побуждает исследователе приводить собственные определения, дополняя их важными, по их мнению, признаками.
Так, М.И. Брагинский рассматривает срок исковой давности в качестве «отрезка времени, в который государством гарантируется право лица на судебную защиту нарушенных прав и законных интересов. Срок исковой давности - это период, в который суд по требованию истца может принудить другое лицо совершить определенные действия, чтобы восстановить нарушенное право истца» [4, с. 232].
Срок исковой давности, будучи отрезком времени, напрямую зависит от таких аспектов как его начало и окончание течения. Правильное определение данных моментов играет ключевую роль для обеспечения самой возможности судебной защиты посредством иска, поскольку обращение лица за такой защитой за пределами установленного срока влечет отказ со стороны суда в удовлетворении его иска.
Однако, как наглядно демонстрирует практика правоприменения, в данной сфере существует немало проблем и коллизий.
В контексте анализа начала течения сроков исковой давности в доктрине представлены два ключевого фактора, один из которых объективно обусловлен, в то время как второй обладает субъективным характером.
Первый критерий заключается в наступлении юридически значимого факта, а второй связан с моментом, когда лицо узнаёт (либо должно было узнать) о наличии спорного правоотношения, влекущего нарушение его прав. Именно второй критерий превалирует в цивилистической науке. Так, как отметил Д.А. Кархалев, возможность получения защиты права в судебном порядке связывается с «познанием» такого права [5, с. 89].
В то же время, его установление на практике представляется затруднительным по причине абстрактного и оценочного характера положений ст. 200 ГК РФ «знать», «должен был знать».
Как считает А.В. Тихонова, такая возможность «знать о нарушении субъективного права», позволяющего инициировать судебное рассмотрение возникшего спора, обусловлена такими факторами как дееспособность субъекта соответствующего правоотношения, арсенал имеющихся у него знаний и опыта, конкретными обстоятельствами произошедшего и т.д. [6, с. 551].
В то же время, возникает закономерный вопрос о том, как определять начало течения срока исковой давности, если речь идет, к примеру, о недееспособном или малолетнем лице? И как обеспечить ему равноценную судебную защиту его прав по сравнению с полностью дееспособными лицами?
Ответ на данный вопрос был дан Верховным судом, где точкой отсчета для начала течения срока исковой давности является факт осведомленности о произошедшем законного представителя лица, чьи права и законные интересы были нарушены [7].
Помимо факта осведомленности лица о нарушении его права, для начала течения срока исковой давности также необходимо иметь представление о надлежащем ответчике по делу. Данное дополнение к ст. 200 ГК РФ было вызвано распространенной практикой предъявления исков к ненадлежащему ответчику, что оказывало неблагоприятное влияние на течение исковой давности.
Укажем, что ч. 2 ст. 196 ГК РФ также оперирует иным сроком исковой давности, именуемым объективным, составляющим 10 лет без учета фактора осведомленности лица о нарушении его права.
Исходя их этого, если лицом будет выявлен факт нарушения его прав тринадцать лет назад, то о субъективной давности вопрос не ставится (исключая оговоренные законодателем ситуации), поскольку предельным временным выражением всех давностных сроков, как отметил В.Е. Панкратов, является регламентированный десятилетний рубеж [8, с. 88].
Примечательно, что такой «ограничитель» установлен в законодательстве многих зарубежных стран, однако он значительно более протяженный (к примеру, во Франции и Германии он составляет 30 лет).
Как видится, законодатель, стремясь обеспечить стабильность гражданского оборота и дисциплинировать его участников, уделил второстепенное внимание иным значимым аспектам - прежде всего, тем целям, ради которых в правовую материю данный институт был изначально внедрен.
На практике может возникнуть немало ситуаций, когда применение объективного срока будет очевидно несправедливо в отношении участника спорного правоотношения, фактически нивелируя его конституционно гарантированное право на судебную защиту.
В частности, иллюстративен пример, когда в многоквартирном доме был произведен ремонт водопроводных труб с нарушением технических правил и нормативов. Спустя одиннадцать лет трубы перестали функционировать, что меньше их эксплуатационного срока, и жильцы при этом претерпели ощутимый имущественный урон [9]. Логично, что ранее они никак не могли знать о нарушении их права управляющей организацией.
Если бы речь шла о применении только субъективного срока исковой давности, то его течение было бы связано с моментом, когда им стало известно о факте нарушения их прав, но ввиду истечения предельного десятилетнего срока иск жильцов не будет удовлетворен. Вряд ли в данном случае можно говорить о соблюдении начал справедливости.
В то же время, исключение из законодательства объективного срока также деструктивно отразится на гражданском обороте и лишит его необходимого качества правовой определенности, поскольку участники многообразия складывающихся правоотношений не будут иметь никакой уверенности в том, что им не будет адресовано задавненное требование, и при этом будут отсутствовать какие-то объективно необходимые рычаги защиты.
Изложенное объективно свидетельствует о необходимости концептуального пересмотра существующей конструкции суммарного объективного срока исковой давности для обеспечения необходимого уравновешивания правового положения участников гражданского оборота.
Прежде всего, принимая во внимание протяженный во времени характер многих гражданских правоотношений, пролонгация существующего сейчас срока представляется объективно необходимой мерой. Неким срединным выражением можно считать срок, составляющий 20 лет, что будет гораздо в большей мере гармонировать с общемировыми тенденциями в данной сфере.
Кроме того, важно законодательно дифференцировать ситуации, когда данный срок не будет применяться - в частности, если истец в силу объективных факторов никак не мог знать о нарушении его права (например, если последствия проявляют себя спустя длительное время после самого факта такого нарушения)[10, с. 36].
Индивидуализированный подход к решению вопроса об исчислении применимого срока исковой давности необходим, поскольку тем самым права истца будут в большей мере защищены, а риски принятия несправедливого решения по его правовой ситуации будут в значительной степени минимизированы.
В любом случае, острота данной проблемы лишь начинает себя проявлять, поскольку окончание первых предельных сроков имело место только с 1.09.2023 г. ввиду того, что они, по директивному указанию законодателя, стали применяться к отношениям, возникшим после 1.09.2013 г.
Отсутствует необходимая ясность по вопросу о том, можно ли восстановить данный срок. И хотя Верховный суд РФ отрицательно ответил на этот вопрос, законодательно он нигде не установлен, и позиция высшей судебной инстанции обладает сугубо рекомендательным характером. В сложившейся ситуации многие исследователи (например, Т.А. Терещенко, А.П. Сергеев и др.) отмечали, что такая возможность имеется.
Не оспаривая необходимости установления в качестве общего правила запрет на восстановление срока исковой давности, в то же время, считаем, что необходимо устранить его категорический характер, и предусмотреть некоторые разумные и обоснованные отступления (в частности, при состоявшихся фактах нарушения прав малолетних или недееспособных лиц, которые не смогли узнать о них или не были способны своевременно обеспечить защиту своих прав).
Резюмируя изложенное, укажем, что, безусловно, институт сроков исковой давности справедливо примыкает к разряду стержневых аспектов гражданских правоотношений, цели которого многовекторны: стабилизация гражданского оборота, повышение дисциплинированности участвующих в нем лиц, обеспечение требуемых гарантий правовой определенности и т.д.
Законодатель, осознавая это, регламентирует вопросы применения и исчисления давностных сроков довольно обстоятельно. Вместе с тем, объективно проявляют себя некоторые упущения и коллизии, которые не позволяют реализовать весь потенциал, заложенный в анализируемый институт. Как видится, предложенные рекомендации в некоторой степени смогут оптимизировать сложившуюся ситуацию.
Список литературы:
- Беланова Г. А. Сроки исковой давности и их применение в гражданском судопроизводстве // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. - 2022. - № 1. - С. 45-52.
- Бубно С.М. Актуальные вопросы применения исковой давности: теория и практика / Актуальные проблемы цивилистической науки: Сборник статей Международной научно-практической конференции. - Ростов н/Д.: Издательство АГРУС Ставропольского государственного аграрного университета, 2019. - 116 с.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от 28.06.2021 г. № 225-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301.
- Брагинский М.И. Договорное право: общие положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - 4-е изд. - Москва: Статут, 2020. - 847 с.
- Кархалев Д.Н. Срок исковой давности в гражданском праве // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - №2. - С. 79-83.
- Тихонова А.В. Исчисление срока исковой давности // Инновации. Наука. Образование. - 2020. - №24. - С. 550-555.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 2015 г., № 12.
- Панкратов В.Е. Проблемы исчисления начала течения сроков исковой давности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2022.- № 12. - С. 87-93.
- Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.08.2018 № 78-КГ18-38 // Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. - Текст: электронный.
- Кириллова М., Крашенинников П. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. М.: Статут, 2019. - 435 с.
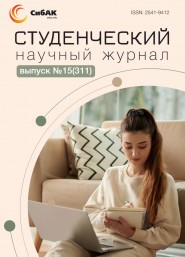

Оставить комментарий