Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 15(311)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7
К ПРОБЛЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
ON THE ISSUE OF RESTORING THE STATUTE OF LIMITATIONS IN CIVIL PROCEEDINGS
Alina Kolesova
master's student, Department of Civil Law and Process, Chelyabinsk State University,
Russia, Chelyabinsk
АННОТАЦИЯ
В статье обоснована важность сроков исковой давности в контексте обеспечения стабильности гражданского оборота. Предметом анализа выступили нормы права, посвященные вопросам восстановления пропущенного срока исковой давности.
С опорой на практику правоприменения раскрыто содержание таких оценочных категорий как «неграмотность», «тяжелая болезнь», «неграмотность», а также выявлена противоречивость их оценки в рамках рассмотрения отдельных дел. Сделан вывод о том, что «неграмотность» лица, пропустившего срок исковой давности, не должна трактоваться как отсутствие у него должного уровня правовой грамотности, что согласуется с правовой позицией Верховного Суда РФ.
Также обоснована необходимость наделения правом направлять ходатайство о восстановлении срока исковой давности также граждан-предпринимателей и юридических лиц, поскольку иное означает нарушение фундаментального принципа равенства участников гражданских правоотношений.
ABSTRACT
The article substantiates the importance of limitation periods in the context of ensuring the stability of civil turnover. The subject of the analysis was the norms of law on the restoration of the missed limitation period.
Based on the practice of law enforcement, the content of such assessment categories as "illiteracy", "serious illness", "illiteracy" is revealed, and the inconsistency of their assessment in the context of individual cases is revealed. It is concluded that the "illiteracy" of a person who has missed the limitation period should not be interpreted as a lack of proper legal literacy, which is consistent with the legal position of the Supreme Court of the Russian Federation.
The necessity of granting the right to file a petition for the restoration of the statute of limitations also to citizens-entrepreneurs and legal entities is also justified, since otherwise it means a violation of the fundamental principle of equality of participants in civil law relations.
Ключевые слова: срок исковой давности, Гражданский кодекс РФ, ходатайство, юридический факт, гражданский оборот, суд, тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, равенство прав.
Keywords: statute of limitations, Civil Code of the Russian Federation, petition, legal fact, civil turnover, court, serious illness, helpless condition, illiteracy, equality of rights.
Одним из фундаментальных постулатов, на которых базируется современный гражданский оборот, является его стабильность и дисциплинированность участвующих в нем лиц. В качестве одного из важнейших инструментов обеспечения соблюдения данных условий выступает институт исковой давности.
Благодаря ему, как справедливо указал Д. Н. Кархалев, гражданские правоотношения приобретают необходимые свойства динамичности, в силу чего сроки исковой давности по своей функциональному предназначению и сущностной природе обоснованно могут быть наделены статусом юридических фактов [1, с. 79].
Сроки исковой давности весьма плюралистичны и могут быть рассмотрены с различных аспектов, однако по критерию их функционального назначения одна из важнейших ролей отведена срокам защиты субъективных гражданских прав. В данном отношении поясним, что потерпевший после свершившегося факта противоправного деяния в отношении него вправе инициировать рассмотрение его спорной правовой ситуации в рамках судебного заседания.
В плоскости процессуального права речь идет о так называемом праве на иск. Запуск данного механизма может повлечь ситуацию, когда нарушенное субъективное право будет осуществлено принудительно, что уже является реализацией права на иск в материальном выражении [2, с. 122].
Главным рычагом реализации соответствующего права является адресация в суд надлежаще оформленного искового заявления. Однако данная возможность не является бессрочной - в целях придания гражданскому обороту необходимой определенности и устойчивости законодатель внедрил в правовую материю особую разновидность сроков, которые именуются сроками исковой давности [3, с. 139].
Также, говоря об их практической значимости, поясним, что любое гражданское дело нацелено на выявление и установление истины по делу, имеющей объективные основания. Как справедливо отметила В. В. Захарова, если бы данные процессы не были «лимитированы», и проходили длительные отрезки времени, достижение обозначенной цели по умолчанию представлялось бы невозможным ввиду высоких рисков утраты ключевых доказательств или их преднамеренной заблаговременной порчи или искажения, что фактически нивелирует их доказательственную силу [4, с. 98].
Несомненным преимуществом сроков исковой давности является их императивность в аспекте невозможности произвольного изменения течения по волеизъявлению участников соответствующих правоотношений. В то же время, в определенных ситуациях законодатель допускает возможность обращения к суду с просьбой восстановить пропущенный срок исковой давности, и данный вопрос отнесен к сфере его автономного ведения, если в этом будет признана целесообразность.
Необходимым процессуальным основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности является соответствующее ходатайство истца, удовлетворение которого осуществляется в ситуациях исключительного характера, если они будут признаны судом как уважительные обстоятельства, имеющие отношение к личности гражданина, ставшие причиной пропуска установленного срока исковой давности.
Законодатель в ст. 205 ГК РФ весьма обтекаемо обозначает спектр подобных обстоятельств (например, неграмотность, тяжелая болезнь, беспомощное состояние), однако их обобщенный анализ дает основание для вывода об их действительно исключительном характере [5]. Ввиду отсутствия каких-либо пояснений относительно вышеуказанных категорий, их содержательного наполнения, отметим следующие значимые аспекты.
Термин «неграмотность» следует понимать не как отсутствие должной правовой грамотности в той или иной сфере, поскольку в таком случае отсутствуют какие-либо препятствия для привлечения квалифицированного специалиста в области права - речь идет именно об отсутствии у лица навыков письма и чтения.
«Тяжелая болезнь» в контексте анализируемой проблематики должна трактоваться как болезненное состояние лица с длительным протеканием, лечение которого осуществляется в условиях нахождения в стационаре.
В аспекте восстановления срока исковой давности важно указать на то что приведенные выше обстоятельства должны иметь место последние шесть месяцев течения срока исковой давности (если срок исковой давности составляет меньше шести месяцев, то такие обстоятельства должны быть в течение всего срока), из чего следует, что сам факт тяжелой болезни не будет выступать основанием для принятия решения в пользу истца - необходимо установить именно факт наличия болезни, которой истец страдал в последние шесть месяцев срока исковой давности [6, с. 66].
Как можно обнаружить на основании материалов судебной практики, суды отказывают в восстановлении срока исковой давности, если лицо, обратившееся с таким ходатайством, проходило курс амбулаторного лечения. Тем самым, презюмируется, что в данном случае истцу ничто не препятствовало своевременно обратиться в суд с целью защиты своих интересов, так как выразителем его воли вполне мог быть выбранный им адвокат.
Как правило, беспомощное состояние трактуется судами достаточно однообразно и предполагает, прежде всего, малолетний или престарелый возраст истца.
Как было отмечено, указанный перечень сформулирован по типу открытого, из чего следует, что суд, рассматривая каждое отдельное дело, в индивидуальном порядке подходит к совокупной оценке всех фактических обстоятельств, отмечая те, которые, по его мнению, позволяют вести речь о возможности восстановления срока (например, смерть близких, утрата, повреждение имущества и документов связи с авариями, преступлениями и т.д.).
В юридической литературе отмечается, что к таким обстоятельствам могут быть также отнесены нахождение истца или ответчика в длительной командировке, неизвестность места пребывания должника, сознательное уклонение и затягивание должником возврата долга или имущества [7, с. 299].
В данном отношении примечательно Определение Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г., отменившее акт, принятый Московским городским судом в рамках рассмотрения дела в апелляционном порядке, в силу которого незнание действующего законодательства является уважительной причиной для восстановления пропущенных давностных сроков [8].
Фабула дела такова, что М. Ж. Манковски обратился в суд с иском к С.М. Чудновскому о взыскании долга по договору займа, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Истец указал, что, согласно условиям договора займа, заключенного 15 июля 2015 г., ответчик получил в свое распоряжение денежные средства, обязуясь их до конца 2015 г. Согласованный срок исполнения обязательств был нарушен.
Ответчик апеллировал к тому обстоятельству, что истец заявил свои требования за пределами трехлетнего срока исковой давности (иск был предъявлен 5 июля 2019 г.). Ответчик, в свою очередь, направил в суд ходатайство о восстановлении пропущенного им срока по причине незнания норм действующего российского законодательства.
В Петровском районном суде г. Москвы его исковое заявление было удовлетворено, и в рамках апелляционного пересмотра дела принятое решение не претерпело никаких изменений. В конечном итоге, ответчик обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой.
В результате анализа фактических обстоятельств дела, Верховный Суд РФ отметил нарушение со стороны нижестоящих инстанций в аспекте неверного применения норм материального права. По мнению ВС РФ, судами было упущено то обстоятельство, что незнание положений законодательства само по себе не может трактоваться в качестве уважительной причины пропуска срока исковой давности, так как в таком случае истец не лишен права обратиться за квалифицированной юридической помощью, и никакой «исключительности» здесь нет.
Также было отмечено, что суды отнеслись легкомысленно к тому, имели ли место причины пропуска Манковски срока исковой давности в последние шесть месяцев этого срока. Соответственно, с их стороны не было представлено никаких доказательств, приведенных в пользу данного факта.
Кроме того, по мнению высшей судебной инстанции, в соответствии с принципами разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, его участники не могут апеллировать к своей правовой неграмотности в обоснование своих правовых притязаний. В результате проведенного анализа ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, отменив решения, принятые ранее.
Позиция ВС РФ представляется верной, поскольку подавляющая часть всего населения России не обладает должным уровнем правовой грамотности, однако это не означает допустимости пропуска давностных сроков для защиты своих прав в суде. Вряд ли были какие-либо барьеры для самостоятельного анализа нормативных положений ГК РФ по анализируемому вопросу, которые вполне понятны и для лиц, не имеющих юридического образования.
К слову, в экспертном сообществе отмечается, что суды в целом крайне строго рассматривают дела, в которых заявлены требования о восстановлении пропущенного срока исковой давности, и идут на такой шаг лишь при исключительном и уважительном характере причин такого пропуска. В силу исключительности, экстраординарности правил о восстановлении сроков исковой давности, суды, принимая решения в пользу заявителей соответствующего ходатайства, должны сопровождать их обстоятельной и не подлежащей сомнению аргументацией [9, с. 51].
Тем самым, ВС РФ создал весьма ценный ориентир для правоприменителей, а также иных участников гражданского оборота, содействующий в обеспечении верной и обоснованной оценки обоснованности причины пропуска срока исковой давности. При ином подходе к анализу представленной ситуации значение сроков исковой давности и их функциональное предназначение были бы нивелированы.
Анализ материалов судебной практики позволяет выделить частое оперирование конструкцией наподобие «какие-либо доказательства, обосновывающие намеренное воспрепятствование истцу в своевременном обращении в суд с исковым заявлением, в материалах дела не представлены», уместно расценить наличие подобных обстоятельств и их обоснование как достаточное основание для восстановления пропущенного срока исковой давности. Речь идет, например, о ситуациях, когда ответчик-юридическое лицо отказывается направить документацию, необходимую для своевременного обращения в суд его участника.
Важно указать также на следующий проблемный момент. Дело в том, что, согласно нормативной конструкции ст. 205 ГК РФ, суд вправе восстановить пропущенный срок исковой давности, как для обычных граждан, так и для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, поскольку на данный счет законодателем не представлено никаких пояснений и оговорок.
В то же время, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя, лишены возможности заявлять ходатайства о восстановлении давностных сроков, если речь идет о сфере осуществления предпринимательской деятельности, аналогично тому, как это установлено в отношении юридических лиц. Причины пропуска для суда индифферентны [10].
В данном отношении хотелось бы пояснить следующее. Как видится, гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, остается, прежде всего, человеком, который не застрахован от рисков болезней, состояния беспомощности и наступления иных обстоятельств, блокирующих возможность своевременного обращения в суд.
Ввиду изложенного, считаем обоснованным и целесообразным наделить данных субъектов правом на восстановление срока исковой давности. Более того, при определенных обстоятельствах такое право должно также предоставляться юридическим лицам, поскольку безальтернативный и категорически выраженный запрет можно расценить как ограничение их права на судебную защиту.
В действительности вполне возможна ситуация, когда, к примеру, единственный учредитель организации одновременно выполняет функции исполнительного органа, и он пребывает в состоянии длительной болезни. Возникает вопрос о том, каким образом при таких обстоятельствах юридическое лицо может своевременно реализовать свое право на судебную защиту, если организация не располагает иными лицами, способными представить ее интересы.
Сложившаяся ситуация порождает риски серьезной дестабилизации гражданского оборота, поскольку, по существу, игнорируется ключевой постулат гражданско-правового регулирования, отраженный в ст. 1 ГК РФ - равенство участников гражданского оборота. Для устранения выявленной дефективности гражданского законодательства целесообразно исключить из ст. 205 ГК РФ положения о связи обстоятельств с личностью заявителя. К слову, данная позиция ранее уже звучала в юридической литературе (например, С. С. Шевчук и др.) [11, с. 106].
Помимо прочего, в целях усиления правовых позиций истца целесообразным видится дополнение перечня оснований для восстановления пропущенного срока исковой давности такими обстоятельствами как «неизвестность места пребывания должника», «умышленное неисполнение должником обязательства».
Таким образом, несмотря на достаточно скрупулезную проработку института сроков исковой давности в гражданском законодательстве России, был сделан вывод о важности продолжения работы по совершенствованию правового регулирования и обеспечения унификации практики правоприменения в данной сфере.
Предложенные рекомендации, как видится, смогут благоприятно отразиться на достижении поставленной цели, поспособствовать частичному урегулированию выявленных проблем и повышению эффективности защиты нарушенных прав и интересов участников гражданского оборота.
Список литературы:
- Кархалев Д. Н. Срок исковой давности в гражданском праве / Д.Н. Кархалев // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - № 2. - С. 79-83.
- Гонгало Б. М. Признаки исковой давности и их отражение в законе // Ex Jure. - 2021. - № 3. - C. 120-129.
- Макарова Е.А. Правовая природа срока исковой давности / Современное право России: проблемы и перспективы: Материалы IV Международной научно-практической конференции. - М.: Издательство Института мировых цивилизаций, 2020. - 580 с.
- Агутин А. В., Захарова В. В. Проблемы института сроков исковой давности // Наука. Общество. Государство. - 2020. - Т. 8. - № 4 (32). - С. 139-145.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
- Ильичев П.А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной практики: Дисс.... канд. юрид. наук. Москва, 2014. - 204 с.
- Старцева С.В. Исковая давность: анализ отдельных предложений по совершенствованию законодательства // Теория и практика общественного развития. - 2023. - № 7. - С. 298-303.
- Определение Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г. по делу № 5-КГ17-267 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71863376/ (дата обращения: 16.05.2024).
- Фаршатов И. А. Исковая давность. Законодательство: теория и практика. - М.:Велби, 2022. - 365 с.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Шевчук С.С., Петров Н.В., Петрова И.В. Основные направления совершенствования института исковой давности в российском гражданском праве // Проблемы экономики и юридической практики. - 2018. - № 2. - С. 105-108.
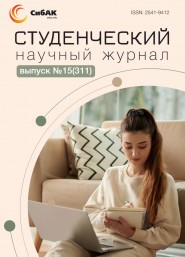

Оставить комментарий