Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 15(311)
Рубрика журнала: Психология
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7
ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА КАК ПРИЧИНА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
MENTAL TRAUMA AS A CAUSE OF DEVIANT BEHAVIOR
Evelina Zhukova
student, Department of Social Psychology and Victimology, Novosibirsk State Pedagogical University,
Russia, Novosibirsk
АННОТАЦИЯ
В статье представлено несколько теоретических подходов из разных направлений в психологии на понятие "психическая травма". Изучение этих подходов позволяет установить возможное влияние психотравмы на девиантное поведение людей. Исследуется связь между психотравмой и аддиктивным, суицидальным, аутодиструктивным и агрессивынм поведением.
ABSTRACT
The article presents several theoretical approaches from different directions in psychology to the concept of "mental trauma". The study of these approaches makes it possible to establish the possible influence of psychotrauma on deviant behavior of people. A study is being conducted on the relationship between psychotrauma and addictive, suicidal, autodestructive and aggressive behavior.
Ключевые слова: психическая травма, девиантное поведение, аддикция, зависимое поведение, суицидальное поведение, теория привязанности, аутодиструктивное поведение, агрессивное поведение, девиант, психотравма, травматичный опыт, детская психическая травма, конформное поведение, делинквентное поведение.
Keywords: mental trauma, deviant behavior, addictions, dependent behavior, suicidal behavior, attachment theory, auto-destructive behavior, aggressive behavior, deviant, psychotrauma, traumatic experience, childhood mental trauma, conformal behavior, delinquent behavior.
Определение девиантного поведения очень многогранно. Так, Клейберг Ю. А. определяет его, «как несоответствие человеческих поступков, действий, видов деятельности, распространенным в обществе или группах нормам, правилам поведения, идеям, стереотипам, ожиданиям, установкам, ценностям» [7, с. 7]. Как мы видим, из этого определения, одним людям свойственно совершать действия, другим людям исходя из своих представлений свойственно оценивать эти действия. Эта схема работает в обе стороны. Что является причиной к действию, когда человек совершает девиантный поступок и что является причиной такой оценки поступка? Если говорить не об общепринятых нормах, а об индивидуальной оценке, то можно предположить, что для каждого человека понятия «хорошо» и «плохо» могут очень сильно различаться, в зависимости от его воспитания, культуры, убеждений, целостности его «Я», травматичного опыта. По мнению Змановской Е.В., в связи с интенсивным развитием информационных технологий появляются новые виды отклонений. В рамках разницы поколений отношение к ним будет разным. Некоторые девиации подверглись пересмотру и утратили свое негативное общественное значение. А часть отклонений, которые прежде табуировались в западном обществе, перешли из категории действий, запрещенных законом, в диапазон нежелательных, но допустимых в условиях осознанного личного выбора [5]. В этом и есть суть проблемы в определении причин и границ девиантного поведения. Актуальность данного доклада заключается в попытке осмысления поведения человека с точки зрения травмирующих ситуаций, которые, возможно, искажают его представления про категории «хорошо и плохо», исходя из разницы межпоколенческих отношений, быстрой изменчивости современного мира, и являются причиной девиантного поведения. Травмирующие ситуации мы будем рассматривать в разрезе феномена психической травмы.
Понятие психической травмы появилось в конце XIX века, когда его ввёл немецкий невролог Альберт Ойленбург в 1878 году. В психологию этот термин перешёл из психиатрии, смежной научной области. Так что же такое психическая травма?
На сегодняшний день существует множество направлений в психологии, которые изучали понятие психотравмы, ее составляющие и как она влияет на последующую жизнь. Однако, общего понимания до сих пор не существует, и каждая теория выделяет свои особенности, которые важны в понимании этого «термина».
Фрейд акцентировал внимание на важности дифференциации в терапевтической практике между актуальными травмами, возникающими как непосредственное реакция на стрессогенные события и ретроактивными травмами, идеология которых связана с прошлым опытом индивида.
З. Фрейд разработал первую психоаналитическую концепцию травмы, согласно которой ключевым патогенным фактором, воздействующим на психику, выступает интенсивная травматическая тревога, обусловленная неприемлемыми влечениями, вытесняемыми в сферу бессознательного [8].
Фрейд выделил три составляющие психики: «Оно», «Я» и «Сверх-Я», в котором «Оно» является полностью бессознательным, «Сверх-Я» латентно бессознательным и «Я» являющим сознание, которым руководят две другие части психики. Таким образом, травматическая тревога, может базироваться как на уровне «Оно», т е полностью уходить в бессознательное, так и на уровне «Сверх-Я» проявляясь в виде воспоминания. «Я» же выступает посредником между «Оно» и «Сверх-Я».
С точки зрения терапии травмы особый интерес представляет концепция «ложного Я» Д.В. Винникотта. Винникотт интерпретирует раннюю травму как следствие дефицита достаточных хорошей заботы, необходимой для поддержания устойчивой связи между психической реальностью ребёнка и внешним миром. Формирование ложной самости (или «ложного Я») он рассматривает как защитный механизм, возникающий в ответ на угрозу нарушения целостности личности ребёнка, обусловленную неблагополучными объектными отношениями.
«Ложное Я» выполняет функцию защиты «истинного Я» от угрозы дезинтеграции, однако при этом становится барьером для его полноценного развития. Винникотт подчёркивает, что проявление «ложного Я» могут варьироваться в зависимости от состояния личности. В норме оно выражается в социально адаптивном поведении, направленном на сокрытие внутренних переживаний и избегание избыточной открытости. В патологических случаях «ложное Я» способствует изоляции «истинного Я», ограничивая его существование исключительно внутренним, скрытым миром [8]. «В случае, когда таких условий найти не удается, оно должно воздвигнуть новую защиту против эксплуатации Истинного Я; если же верх одерживают сомнения, тогда клиническим результатом становится суицид. Суицид в этом контексте является деструкцией целостного Я во имя избежания аннигиляции Я истинного. Когда суицид – единственная зашита, оставшаяся у человека, чтобы избежать предательства своего Истинного Я, тогда уделом Ложного Я становится организация этого суицида» [2, с. 7]. Таким образом, можно сказать, что травма, связанная с ложным пониманием своего «Я» может приводить к суицидальным мыслям и поведению из-за невозможности справиться с полной утратой своего «истинного Я», так как «истинное Я» страшно предъявить этому миру.
В ряде случаев наблюдается феномен, при котором «ложное Я» полностью замещает «истинное Я», выступая в глазах окружающих как подлинная личность. При этом «истинное Я» остается практически не выраженным, скрытым в глубинах психики. Такая подмена приводит к существенным ограничениям в сфере профессиональных и межличностных отношений. Взаимодействие с другими людьми становится поверхностным, лишенным глубины и подлинности, что неизбежно сказывается на качестве коммуникации и способности к установлению полноценных связей. В результате такие отношения оказываются не способными удовлетворить потребности личности в эмоциональной близости и взаимопонимании [8]. Такой человек может уходить в сильные формы депрессии, под влиянием которых могут строиться агрессивные взаимоотношения с близкими людьми в частности и с обществом в целом. Значимость установления такой причины агрессивного девиантного поведения достаточно велика, ведь она позволяет переработать этот травматичный опыт для последующей более комфортной жизни человека. Также следует отметить, что человек, который не имеет возможности показывать миру «истинное Я» может быть достаточно конформным. Его защиты работают на то, чтобы приспособиться к тому что есть, но это не всегда ведет к положительному результату. Такое поведение привлекает более сильных личностей, и они могут подавлять конформиста, увлекая, возможно, в противоправные действия. Таким образом, человек сам того не желая оказывается втянут в антисоциальные действия и к его конформному поведению добавляется делинквентное поведение.
Обобщая многочисленные теоретические подходы, можно определить психическую травму как переживание, которое оказывается настолько интенсивным и аффективно насыщенным, что становится практически невозможным для контейнирования без расщепления структуры «Я». Это происходит вследствие чрезмерного воздействия аффекта на ключевые центры перцепции психики, включая ощущение, внимание, память, речь, воображение, мышление, эмоции, чувства и волю. Непереносимость такого влияния приводит к деформации личности, при которой сознание разделяется на сознательное и бессознательное. В этом процессе сознательное берет на себя роль «защитника», стремясь оградить личность от травмирующего опыта, который вытесняется в бессознательное. Там этот опыт оставляет глубокий отпечаток, формируя устойчивые паттерны, которые заставляют сознательное выстраивать сложные защитные механизмы вокруг ядра личности. Эти защиты направлены на предотвращение повторного соприкосновения с непереносимыми эмоциями, связанными с травмой.
Травматическое переживание, не подвергшееся процессу переработки и интеграции в психическую структуру, продолжает оказывать устойчивое воздействие на психику, активизируя интенсивный и неупорядоченный поток психической энергии. Этот поток, лишенный связанности и направленности, проявляется в поведенческих актах, которые носят повторяющийся характер и могут казаться лишенными осмысленности [6]. Такие действия будучи внешне нелогичными являются попыткой психики справиться с непереработанным травматическим опытом, который продолжает оказывать давление на сознание и бессознательное, провоцируя неосознаваемые реакции и паттерны поведение. В действительности, психика пытается пережить и завершить этот травматичный опыт, постоянно возвращаясь к нему в различных ситуациях. Таким образом, все наше поведение находится под влиянием нашего подсознания и сознания, где одно пытается разрешить свои проблемы, а другое строит преграды, чтобы остаться там же и не идти в этот травматичный опыт.
«Весьма ценными представляются мысли З. Фрейда о том, что травма не всегда проявляется в чистом виде, как болезненное воспоминание или переживание. Достаточно часто заместителями воспоминаний и чувств, связанных с травмой, являются различные симптомы (например, энурез, бессонница, заикание, обсессивные паттерны, тики, нарушения пищевого поведения и прочее), которые затем обретают самостоятельность, оставаясь неизменными. Говоря языком психоанализа, травма хочет быть предъявленной, и, если травма не может предъявить себя в прямом значении, она всегда найдет символ, дающий ей «форму»» [3, с.14].
Таким символом может быть девиантное поведение, порой человек сам не понимает почему он действует так или иначе, давая поверхностные объяснения, в действительности, там скрываются глубинные потребности в принятии, понимании, любви, тепле, внимании, отсутствии одиночества и т.д.
Испытывая эти потребности, человек, не осознавая, может прибегать к различным формам зависимого поведения, чтобы почувствовать то самое чувство, за которым гонится его подсознание для разрешения конфликта между тем состояние, которое есть сейчас и тем, которого хочется на глубинном уровне.
Аддиктивное поведение направлено на снижение интенсивности негативных эмоциональных состояний, которые у лиц с аддикцией переживаются с повышенной остротой. Форма аддиктивного поведения формируется неосознанно и подбирается в зависимости от специфики эмоционального переживания требующего нейтрализации. В частности, у части аддиктов наблюдается феномен алекситимии, характеризующийся затруднениями в идентификации и дифференциации собственных эмоций. В случаях тяжелой детской травы ребёнок вынужден прибгать к психологическим защитным механизмом, таким как эмоциональным «отключение», что в дальнейшем может способствовать развитию аддиктивных паттернов. Это объясняет, например, склонность некоторых зависимых к употреблению психоактивных веществ, которые позволяют им компенсировать эмоциональную обедненность и разнообразить спектр переживаний [1]. В результате, индивид может прибегать к различным формам девиантного поведения, включая табакокурение, наркотическую зависимость, самоповреждение, сексуальные аддикции и другие виды деструктивных проявлений.
В стремлении к удовлетворению базовых потребностей в любви и безопасности, корни которых могут оставаться не удовлетворенными с раннего детства, индивид склонен формировать зависимый или избегающие паттерны межличностных отношений. Данный феномен находит объяснение в рамках теории привязанности Дж. Боулби. Если поведение матери (или фигуры, её замещающей) не обеспечивает ребёнку ощущения восстановления или поддержания эмоциональной близости, это приводит к двум ключевым последствиям. Во-первых, у ребёнка нарастает негативный аффект, который может достигать уровня, угрожающего психологической устойчивости. Во-вторых, происходит фрустрация потребности в привязанности, что, как свидетельствуют исследования, формирует предпосылки для развития заниженной самооценки и одновременно ставит ребенка перед необходимостью справляться с возникающие агрессией. В результате, когда эмоциональное состояние ребёнка интенсифицируются и усложняется дополнительными компонентами, с которыми он не в состоянии справиться самостоятельно, а внешняя поддержка отсутствует, создается типичная психотравмирующей ситуация [6]. Исходя из этого складываются 4 типа привязанностей (надежная, безопасная привязанность; ненадежная, избегающая привязанность; ненадежная, тревожно-амбивалентная привязанность; Патологический вариант – дезорганизованный тип привязанности) [3], которые влияют на дальнейшею жизнь человека и его поведение в обществе. Исходя из типа привязанности ребенок или взрослый может уходить в крайние формы одиночества, быть отрешенным от всего мира, создавать минимум социальных контактов с одной стороны, с другой стороны может быть не разборчивым в связях, с высоким уровнем доверия к людям.
Подводя итог, всему выше сказанному, можно утверждать, что психическая травма влияет на девиантное поведение, в частности является причиной зависимого, суицидального, антисоциального, агрессивного и конформного поведения. Психическая травма формирует ложные представления о своей самости человека и выставляет защиты, создавая иррациональные убеждения и установки, которые могут восприниматься людьми по-разному исходя уже из своих убеждений. Окраска отношения к этим убеждениям будет зависеть от полученного опыта каждого. Так как психотравма ищет выход она может проявляться как бессознательный автоматизм. Также психическая травма включает психологические механизмы, призванные поддерживать целостность психики. Таким образом, выводя травму из бессознательного в сознательное можно выстроить более гармоничные отношения с миром, не прибегая к различным формам девиантного поведения, как к спасению от боли, которую невозможно разрешить. Имея надеждный тип привязанности личности, выстроенные благоприятные объектные отношения, скорее не дадут человеку увлечь себя в деструктивные виды деятельности, ведь у человека есть важные опоры в жизни, которые сложно пошатнуть. Стоит отметить, что не всякая психотравма приведет к отклоняющемуся поведению. Таким образом, наличие психической травмы еще не говорит о том, что человек является девиантом.
Список литературы:
- Барцалкина В.В. Терапия последствий детских травм, депривации и насилия как профилактика аддиктивного поведения [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2010. Т. 2. № 5. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2010_n5/Bartsalkina (дата обращения: 31.03.2024)
- Винникотт Д. В. Искажение Эго в терминах Истинного и Ложного Я // Московский психотерапевтический журнал. 2006. № 1. С. 5-19
- Гурина Е. С., Кошенова М. И. Работа психолога с детской травмой : учебное пособие // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Новосибирский государственный педагогический университет. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2020. 311 с.
- Зайцева А.С. Время и бессознательное // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции/ Под редакцией М.М. Решетникова. Санкт-Петербург, 2019. С.61-71
- 3мановская Е. В., Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и группы : Учебное пособие. СПб.:Питер, 2010. 352 с.
- Калмыкова Е.С., Гагарина М.А., Падун М.А. Роль типа привязанности в генезе аддиктивного поведения: постановка проблемы. Часть I [Электронный ресурс]// Психологический журнал. 2006. Т. 27. № 6. С.45-53. URL: https://lib.ipran.ru/paper/9300602 (дата обращения: 31.03.2024)
- Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для вузов. М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М» 2001. 160 с.
- Колесникова В. И. Психологические особенности травмы в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Социология. Педагогика. Психология. Т. 3 (69). 2017. № 1. С.43–55
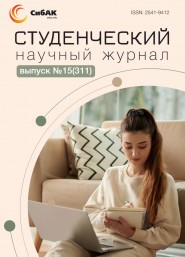

Оставить комментарий