Статья опубликована в рамках: XCV Международной научно-практической конференции «История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты» (Россия, г. Новосибирск, 04 августа 2025 г.)
Наука: Философия
Секция: История философии
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В РУССКОМ НЕОКАНТИАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ А.И. ВВЕДЕНСКОГО И А.В. ВЕЙДЕМАНА)
FEATURES OF ETHICAL TEACHINGS IN RUSSIAN NEO-KANTINIANISM (ON THE EXAMPLE OF A.I. VVEDENSKY AND A.V. VEYDEMAN)
Vladimirov Pavel Anatolyevich
Ph.D. in Philosophy, Associate Professor at the Department of Philosophy at the RANEPA; Senior Lecturer at the RUDN University;
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Определение русского неокантианства как части истории российской гуманитарной мысли до сих пор вызывает дискуссии. Во-первых, сложно установить границы направления. Во-вторых, нет единых критериев для причисления того или иного мыслителя и ученого к неокантианству. С другой стороны, до сих пор можно встретить положения, что русское неокантианство есть некоторое продолжение немецкой традиции Марбургской или Баденской школ. Безусловно, русские неокантианцы учитывали труды и исследования известных философов немецкой традиции, в том числе Г. Когена и В. Виндельбанда. Однако говорить о немецком неокантианстве как исходном пункте для В.Э. Сеземана и С.И. Гессена, А.И. Введенского и А.С. Лаппо-Данилевского чрезмерно упрощенно. Хотя большинство авторитетных исследователей (В.Н. Белов, Н.А. Дмитриева, Е.А. Фролова и многие другие) подчеркивают своеобразие позиции российских философов, но нет единых и устойчивых представлений. В частности, нет линии демаркации между русской и немецкой традициями неокантианства. В данной статье представлена попытка наметить путь для начала системной реконструкции русского неокантианства как феномена именно русской культуры.
ABSTRACT
The definition of Russian Neo-Kantianism as part of the history of Russian humanitarian thought is still a subject of debate. Firstly, it is difficult to establish the boundaries of the movement. Secondly, there are no unified criteria for classifying a particular thinker or scholar as a Neo-Kantian. On the other hand, it is still possible to find statements that Russian Neo-Kantianism is a continuation of the German tradition of the Marburg or Baden schools. Of course, Russian neo-Kantians took into account the works and research of famous German-tradition philosophers, including H. Cohen and W. Windelband. However, it is overly simplistic to speak of German Neo-Kantianism as the starting point for V.E. Sezeman and S.I. Hessen, or for A.I. Vvedensky and A.S. Lappo-Danilevsky. Although most reputable researchers (V.N. Belov, N.A. Dmitrieva, E.A. Frolova, and many others) emphasize the uniqueness of the Russian philosophers' positions, there are no unified and stable ideas. In particular, there is no clear line of demarcation between the Russian and German traditions of Neo-Kantianism. This article attempts to outline a path for the systematic reconstruction of Russian Neo-Kantianism as a phenomenon of Russian culture.
Ключевые слова: русское неокантианство, этика, ригоризм, А.И. Введенский, А.В. Вейдеман.
Keywords: Russian Neo-Kantianism, ethics, rigorism, A.I. Vvedensky, A.V. Weideman.
Введение
Феномен русского неокантианства неоднозначен в истории отечественной философии по двум признакам. Первое – русские философы, использующие методологию и ключевые принципы критического идеализма, не создали единой школы или направления по примеру Марбургской или Баденской школы неокантианства. Второе – русские философы сохранили особенность и уникальность русской мысли, что ярко выражено в эстетических и социально-этических теориях. В последнее десятилетие все больше появляется рукописей о проблематике выявления русского неокантианства и способах его определения в историко-философской и историографической литературе, в частности укажем на работы В.Н. Белова [1], Н.А. Дмитриевой [8] и А.Н. Круглова [11]. Поскольку феномен русского неокантианства точно и объективно представлен в истории российской и русской зарубежной философии, то следует обозначить границы рассмотрения или выявить общие критерии данного феномена.
Актуальность поставленной цели выражается в наличии значительного влияния «новокантовской философии в России» (в терминологии Н.О. Лосского) на последующее развитие немецкого трансцендентального идеализма и современные направления феноменологии и методологии науки (в том числе в истории советской философии и в условиях новейшей российской философии). Для достижения поставленной масштабной цели можно выделить положения кантовской философии, которые получили распространение не только в «новокантианстве», но и в смежных направлениях русской мысли, в том числе в области философии права и социально-этических теориях. Далее предполагается выделить особенности интерпретаций или методологии тех, кто однозначно себя причислял к сторонникам кантовской философии. Здесь используется слово «сторонники», а не «последователи» из-за существующего различия между неокантианцами (или «новокантианцами») и кантианцами. На примере немецких мыслителей к классическим представителям кантианства относится известный историк философии – К. Фишер, а неокантианцами в подлинном смысле слова являются Г. Коген (основатель Марбургской школы, где приоритет изучения отдается методологии науки и теории познания) и В. Виндельбанд (родоначальник баденского неокантианства, где развивается теория ценностей и проблематика демаркации точного и гуманитарного знания).
Рассмотрение области практической философии и этики в частности, которые представлены в системе любого последователя или сторонника кантовской философии, может способствовать выявлению общих признаков русского неокантианства, отличающих его от смежных или близких направлений. Об особенности понимания практической философии И. Канта в среде неокантианцев указывали многие исследователи, в том числе Т. Немет в труде «Русское неокантианство. Возникновение, расцвет и распад». В рецензии Ю.В. Соколовой данная позиция американского историка философии подчеркивается и дополняется собственной оценкой своеобразия роли этики в системе критической философии [18]. Потому, в качестве основы целесообразно выбрать те учения, которые отчетливо используют основоположения кантовского ригоризма, но явно обладают авторским расширением первоначального контекста. К подобным учениям в истории русского неокантианства относятся труды А.И. Введенского и одного из его студентов – А.В. Вейдемана, который впоследствии стал одним из ярких философов Латвии [9].
Понятие долга и ригоризм в близких к русскому неокантианству учениях
Вопрос об оригинальности этических учений в русском неокантианстве всегда вызывает споры, так как кантовский принцип долженствования и ригоризма в целом разделяли многие российские мыслители, даже те, кто не причислял себя к последователям кантовской философии. В статье А.Н. Круглова «Борьба с кантианским естественным правом в России 20-х годов XIX века и российская политическая ситуация 20-х годов XXI века», обозначают ключевые положения теории права на принципах кантовской практической философии, вызвавшие критику в российских университетах [11, с. 85]. Л.И. Петрожицкий и Н.Г. Дебольский, П.Е. Астафьев и В.Д. Кудрявцев-Платонов, обозначали в своих трудах полезность и ценность принципа долженствования, но их сложно назвать беспрекословными последователями кантовской системы или тем более немецкого неокантианства. Можно выделить два положения, за которые критиковалась этика И. Канта: 1) противоречие между долгом как целью с позиции морали и должным поведением в теории естественного права (хотя стоит помнить о своеобразии позиции И. Канта и отличии его воззрений относительно сущности права и морали от иных сторонников естественного права); 2) кантовский ригоризм упрекали в чрезмерной рационализации и схематизации, где «религия только в пределах разума», а индивидуальность подчинена императивности поведения. Подобные интерпретации кантовского принципа долженствования отличались от суждений русских неокантианцев, в частности А.И. Введенского и А.В. Вейдемана. Стоит согласиться с Е.А. Фроловой, что «неокантианцы, в том числе русские юристы, считали необходимым приблизить формальный подход Канта к действительной жизни» [19, с. 320]. То есть кантовский ригоризм воспринимался как целеполагание к прикладной этике. Иначе говоря, практическая философия есть начало для социального прагматизма, но не наоборот.
Л.И. Петрожицкий в работах по теории права («Введение в изучение права и нравственности» [14] и «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» [15]) описывал положения кантовской этики как идеал для развития прикладной стороны права, который так же полезен, как и недостижим в истории. Примечательно начало одной из фундаментальных работ Л.И. Петражицкого по теории права: «Гениальный философ Кант смеялся над современной ему юриспруденцией по поводу того, что она еще не сумела определить, что такое право» [14, с.11]. Однако русский правовед указывает, что сам И. Кант не смог дать ответа, оставив предпосылки и место в истории для появления «Философии права» Г. Гегеля, а далее для теорий Г.Ф. Пухта и К.Ф. Краузе [15, с. 298]. Разделяя «науки о праве» и «науки о нравственности» [14, c. 115], русско-польский философ обозначает необходимость дополнения этического компонента права не только социально-политическими теориями, но и достижениями психологии. Использование «чистых» психологизмов (в данном случае – практической психологии) в теоретических построениях достаточно резко критиковалось в кантианской традиции, что отличает труды Л.И. Петражицкого от русских неокантианцев.
В то же время в его работе «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» понятие долга в кантовской интерпретации, а не гегелевский панлогизм ограничивает юриспруденцию в пределах нравственно-допустимых норм при определении содержания права [15, с. 130-137]. Близкие позиции высказывались А.И. Введенским и А.В. Вейдеманом относительно нормативных оснований нравственной педагогики [13]. Г. Радбрух, выдающийся немецкий правовед, различая позиции Л.И. Петражицкого и кантовскую позицию, указывает следующее: «Согласно Канту мораль требует «нравственности», право – «законности». Различие верное. Неверно только толковать его как различие в способах обязывания» [16, c. 52]. То есть этика долга становится частью эпистемологических границ «наук о праве», определяя допустимость прикладных предписаний в юриспруденции. Кантовский ригоризм для Л.И. Петражицкого предписывает цель действий, но нормы обязывания формируются уже в прикладной форме права.
В свою очередь В.Д. Кудрявцев-Платонов положительно оценивал идею категорического императива сквозь призму вопроса о реализации религиозных норм христианства в повседневной мирской жизни. Д.О. Рожин достаточно подробно описывает влияние кантовской философии на установление религиозно-философских учений Ф.А. Голубинского и В.Д. Кудрявцева-Платонова [17, с. 351-354]. Добавим, что В.Д. Кудрявцев-Платонов высоко оценивал попытку реализовать критический рационализм в гносеологии, где объединяются эмпирические и теоретические построения, в том числе в областях общественных учений [12, с. 50-54]. Близкие суждения высказывались П.Е. Астафьевым и Н.Я. Гротом, хотя они резко критиковали кантианство в целом из-за известного суждения, что религия должна восприниматься в философии исключительно в пределах разума и критически, а не догматически.
Особенность этических учений А.И. Введенского и А.В. Вейдемана
Стоит отметить, что в историко-философской реконструкции всегда требуется (хотя этот момент затруднителен в ряде случаев) провести линию демаркации между тем, когда (1) мыслители лишь используют идеи И. Канта, развивая оригинальные теории, с ситуацией, когда (2) учение перенимается без существенных изменений. Трудность выражается в том, что отдельные фрагменты или точнее основоположения кантовской философии используются без существенной переработки, а иные элементы системы кардинально преобразуются или даже отрицаются. Ярким примером является использование системы критического идеализма А.И. Введенским. С одной стороны, он перенимает без дополнений или расширения принцип долженствования и раздельность на феноменальное описание объектов и их ноуменальное объективирование. С другой стороны, русский философ принципиально отлично рассматривает объектное содержание практической философии, указывая на неполноту кантовских суждений о предмете научного знания (методология «наук в собственном смысле слова» не может быть использована для всех отраслей наук единообразно) и о методах общественных наук (методы не ограничиваются исключительно математикой и экспериментальным подходом) [5]. Наиболее отчетливо различие выражается в последнем системном труде русского философа – «Психология без всякой метафизики» [4]. Но уже в «Логике как части теории познания» категории рассудка и антиномии разума объединены в логические основания мышления, где выделены четыре закона. Кроме того, А.И. Введенский подчеркивал игнорирование в кантовской системе закона достаточного основания Г. Лейбница, который не является продолжением аристотелевской логики, а служит основанием для более универсальной схематизации суждений и высказываний [2, с. 235-239].
Архитектоника И. Канта перенимается как шаблон, но не как готовая модель. Относительно этики данное отношение сохраняется, особенно в вопросе о самостоятельности этических категорий и содержании практической философии в целом. Во-первых, А.И. Введенский усматривал чрезмерные предпосылки к психологизму в кантовских формулировках описания практического разума. Во-вторых, категории рассудка должны быть коррелированы с аналогичной структурой в области практических дисциплин (что до сих является предметом дискуссий). То есть корреляция основоположений «чистого разума» и «чистого практического разума» в согласованности с четырьмя группами категорий рассудка. Для преодоления неоднозначностей в реконструкции кантовской философии, А.И. Введенский формирует собственный методологический компонент критического идеализма, который называет «логицизмом» (описывается в третьем переиздании работы «Логика как часть теории познания»). Исходя из описания особенностей структуры мышления, выводятся исходные предпосылки для описания нравственности, принципа долженствования и морали. Только вопрос о нравственности и общественной пользе являются прикладными и в полной мере составляют предмет практической философии. В работе «О видах веры в ее отношениях к знанию» пытается на примере феномена «веры» разделить прикладное и исключительно теоретическое понимание нравственности и морали [3]. Здесь же поднимается вопрос об этике, которая сама по себе не является самостоятельным разделом, а обозначает собирательный шаблон для объединения вопросов общественной, частной и государственной жизни.
А.И. Введенским безоговорочно принимает положение И. Канта о примате долга и категорического императива. Последний используется русским философом преимущественно в одной из трех известных формулировок, а именно – поступай так, чтобы максима твоей воли стала основанием всеобщего законодательства. Этика рассматривается только как схематизация соотношения нравственности (нравственного закона, присущего каждому разумному существу) и морали (проявляющейся в качестве норм общественной жизни или как теория права). При этом сами по себе категории этики – это эклектика двух различных проявлений практической философии, а именно того, что относится к разумности отдельного человека (нравственности, как идеала воспитания и реализации свободы воли) и к гражданскому обществу (правила и нормы морали, в том числе в контексте дискуссий о теории естественного права). А значит, сама по себе этика не обладает необходимостью включения в систему критического идеализма в отличие от нравственности, теории права, педагоги и воспитания. Дополнительно в статьях разных лет указывается принципиальная «не рационализация» с позиции логики и точных наук представлений о свободе воле и источниках человеческой сознательной деятельности [5]. Поэтому ценность критической философии выражается в создании наиболее научно-обоснованных суждений о предметах, которые не являются типичными объектами науки. Все остальные проблемы должны быть вытеснены в область «критической метафизики» до тех пор, пока не найдутся рациональные основания для объяснения явлений в пределах «возможного опыта». Категории добра и зла являются областью метафизики, которые отсылают к религиозным и эстетическим контекстам, однако не являются самостоятельной и подлинной частью строгой критической философии.
Как итог, нет отдельных категорий этики, но есть признаки этически-допустимого поведения субъекта в зависимости от контекста, то есть в областях «чистой философии» (обобщение всего накопленного опыта и теорий), общественной жизни (соотношение индивидуального и общественного начала человека), а также теории государства и права (область правоведения и прикладной педагогики). Каждой области рациональной активности человека присущи свои нормы этически-допустимого поведения и соответствующих ему суждений. Отдельно выделяется область «чистой нравственности», где предметная область очерчена теорией воспитания и общей педагогикой.
У А.В. Вейдемана, посещавшего курсы и лекции А.И. Введенского, иная позиция о значении этики. В отличие от А.И. Введенского, область этики становится источником и основой для философии как самостоятельной отрасли человеческой деятельности. Уже по названиям ключевых трудов можно составить отчетливое представление о центральной позиции этического учения, которое названо трагикой (или трагическим ригоризмом). Последовательно были опубликованы следующие труды: «Мышление и бытие», «Мир как понятие», «Трагика как сущность искусства, религии и истории» «Оправдание зла: дополнительные проблемы трагики». Однако при более детальном рассмотрении становится очевидным, что первые труды посвящены вопросам гносеологии, где позиция И. Канта прочитывается сквозь призму немецкого неокантианства, далее гегельянства и дополняется рассуждениями русских мыслителей, в том числе идеями А.И. Введенского, Б.В. Яковенко, В.Э. Сеземана и Н. Гартмана [6]. В целом работы повторяют путь «критического периода» философии И. Канта, то есть от теории познания к вопросам практической философии и далее к областям эстетики и теории искусств как завершения общей системы.
Наука, искусство и религия синтезируются в философии, а этика выступает схематизмом антропологичности известной человеку истории. Вся история есть история человека, который вовлечен в познавательный процесс [7]. У каждого субъекта истории (совершившейся или несбывшейся, по аналогии с терминологией Ф.А. Степуна) есть собственные исходные основания для познания и формирования мировоззрения – наука, религия или искусство. И только при достижении критической формы мировоззрения осуществляется осознание системности всех трех источников и ключевых отраслей человеческой активности. В данной системе этика есть критическая форма антропологии, где приоритетами выступают принципы кантовской практической философии. Среди них выделяются положения о человеке как «самоцели», принцип долженствования и примат практического разума. При этом признается как формулировка категорического императива, так и максимы. У А.И. Введенского же признается безусловным только одна из формулировок категорического императива, а максимы описываются как неудачная попытка преодолеть наивный психологизм. В статьях С.Н. Ковальчук и ее монографии справедливо обозначается, что А.В. Вейдеман так же усматривал опасность психологизма в дополнениях к «Критике практического разума» И. Канта, но в ключевых трудах литовско-русского философа не обозначено преодоление чрезмерности отсылок к психологизации понятий «воля», «поступок», «мотив» и «модель поведения» [10].
Подчеркнем, что подавляющее большинство неокантианцев, как в России (А.И. Введенский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.В. Вейдеман, В.Э. Сеземан, Б.В. Яковенко и другие), так и в Германии (Г. Коген и П. Наторп, В. Виндельбанд и Г. Риккерт, Э. Кассирер и Н. Гартман), стремились преодолеть психологизм в теоретической части критического идеализма. Ключевой трудностью было обоснование психологии как следствия, а не как источника практической философии. Человек в первую очередь разумное существо, а потом уже субъект социальных отношений и часть биологического мира.
А.В. Вейдеман не опубликовал последнюю часть своей системы, посвященную психологии, но имеются имплицитные предпосылки в лекционных курсах, читаемых в Риге. Основным содержанием этики выбирается область нравственного законодательства в согласованности с безусловностью принципа долженствования, а не проблематика формирования максим поведения. В дополнении утверждается, что единственной объективной и рациональной формой мировоззрения является критическая позиция, ориентированная на точность применения категорий мышления. Данный момент позволяет объединить интерпретации основоположений практического разума у А.И. Введенского и А.В. Вейдемана, но сохраняется различие в обращении к наследию И. Канта. Особенно заметно различие в понимании значения и функции «свободы воли». Для А.И. Введенского, «свобода воли» есть причина для рационального отношения к себе и к окружающему миру, при этом источник «воли» не устанавливается в точном естествознании и остается в области «критической метафизики». В трудах А.В. Вейдемана «свобода воли» не относится к человеку, а является упрощением понимания всеобщих закономерностей развития истории. Здесь, как и в вопросе о соотношении мышления и сознания, бытия и материальной действительности, прослеживается синтез влияния гегельянства и поздних работ Г. Когена сквозь призму сотериологии, что является одной из важнейших частей христианской догматики. Данный синтез отчетливо обозначен философом в начальных главах своего последнего системного труда «Оправдание зла: дополнительные проблемы трагики».
В качестве заключения
Несмотря на различия в определении этики и ее функции в критической философии, русские неокантианцы не использовали проект И. Канта как готовую систему взглядов. Из практической философии преимущественно принималось положение о принципиальности долженствования и признание человека как источника для познания. То есть «коперниканский переворот» воспринимался в кантовской трактовке, а не в более поздних интерпретациях, где акцент сместился с источника познания на проблематику соотношения ноумена и феномена. То есть отправной точкой формирования систем познания, которые различаются по источникам основоположений (наука, религия, искусство), выступает субъект, обладающий правилами мышления как предрасположенностью восприятия мира. Социальные, общественные и нравственные нормы присущи человеку по причине наличия особенностей логического построения суждений об окружающем мире. История и все существующие теории являются лишь попыткой наполнить схематизм восприятия человека динамическими изменениями многообразия существующих вещей Трансцендентальная диалектика получила большее распространение у русских мыслителей, чем первая часть трансцендентальной логики, то есть трансцендентная аналитика.
Другим общим положением для русских неокантианцев было отрицание какого-либо агностицизма в кантовской философии по причине наличия категорического императива. Напомним, что агностицизм приписывался кантовской системе в традициях позитивизма и материализма (в особенности младогегельянцами). Однако у самого И. Канта непознаваемость «вещи в себе» обусловлена исключительностью естественных методов познания (эмпирических данных) и неразвитостью точного знания о физическом понимании пространства и времени. Поскольку субъект познания не исключается из системы взаимосвязей объекта познания, то чистота эмпирических данных не может быть достигнута и зависит от действий или испытывает влияние воспринимающего субъекта. При этом знание, которое претендует на точность (всеобщность и универсальность) всегда должно находиться «в пределах возможного опыта». Для русских неокантианцев наличие практической философии снимало вопрос о существовании вещей в себе, которые могут быть частью «возможного опыта». То есть каждый разумный субъект есть «вещь в себе», но так как категорический императив безусловен к исполнению вне зависимости от субъективно совершаемых поступков и действий, то каждый как минимум точно знает о действительности существования качества, присущего другому человеку как «самоцели» и «вещи в себе». Однако мотивация, интерпретация следствий категорического императива и формирование максимального поведения остаются не только предполагаемыми, но и неизвестными, поскольку не существует эмпирически точных средств и механизмов их проецирования в виде опыта науки.
В среде близких тенденций к кантовской философии, в особенности в области философии права и психологии, положения критического идеализма воспринималась как готовая система. При этом не учитывалось, что это именно система, а не исключительно «критика чистого разума». Преимущественно игнорируется «критика способности суждения», а вопросы теории познания ограничиваются схематизмом и основами трансцендентальной аналитики.
В свою очередь, неокантианцы видели не только перспективы, но и трудности развития кантовской системы. В том числе неоднозначность положения о примате практического разума перед иными формами описания и представления мира. Отсутствие строгой онтологии и незавершенность проекта психологии как части практической философии, спровоцировало появление серьезных различий в этических учениях. Однако вне зависимости от того, как обозначили русские мыслители данную область исследования – критическая метафизика (А.И. Введенский), трагика истории (А.В. Вейдеман) или нравственная теория воспитания и образования (С.И. Гессен) она всегда оставалось прикладным выражением практической философии как части общей системы трансцендентного идеализма на принципах критицизма.
Список литературы:
- Белов В.Н. Пост-неокантианство философии С.Л. Рубинштейна // Трансцендентальный поворот в современной философии – 8. М., 2023. С. 39-41.
- Введенский А.И. Логика, как часть теории познания. СПб., 1912. 510 с.
- Введенский А.И. О видах веры в ее отношениях к знанию. М., 1896. 77 с.
- Введенский А.И. Психология без всякой метафизики. Петроград, 1917. 359 с.
- Введенский А.И. Статьи по философии / сост. А.А. Ермичев, С.А. Ненашева, И.М. Лихарев. СПб., 1996. 232 с.Вейдеман А.В. Мышление и бытие (логика достаточного основания. Рига,, 1927. 335 с.
- Вейдеман А.В. Оправдание зла: дополнительные проблемы трагики. Рига, 1939. 221 с.
- Дмитриева Н.А. Кант в России: темы, проблемы лакуны // Философский журнал. 2025. №2 (18). С. 53-62.
- Ковальчук С.Н. Александр Вейдеман – философ из Петербурга. Непарадная биография на основе архивных источников // Вестник СПбГУ. Серия 2. 2016. №1. С. 31-41.
- Ковальчук С.Н. Настоящий изгнанник с собой все уносит: судьбы ученых-эмигрантов в Латвии 1920-1944 гг. М., 2017. 432 с.
- Круглов А.Н. Российское кантоведение после распада СССР // История философии. 2025. №1 (30). С. 85-100.
- Кудрявцев-Платонов В.Д. Сочинения. Т. 1 : Исследования и статьи по введению в философию и по гносеологии. Сергиев Посад, 1914. 367 с.
- Лебедева А.В., Владимиров П.А. Нравственные основания теории обучения и воспитания в русском неокантианстве // Высшее образование в России. 2022. №3 (31). С. 96-107.
- Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Изд. 3-е. СПб., 1908. 284 с.
- Петражицкий Л.И. Теория права и государства во взаимосвязи с теорией нравственности. Т.1. СПб., 1907. 308 с.
- Радбрух Г. Философия права. М., 2023. 240 с.
- Рожин Д.О. Следы кантовского априоризма во взглядах Ф.А, Голубинского и В.Д. Кудрявцева-Платонова // Вестник РУДН. Серия: Философия. 2024. №2 (28). С. 344-357.
- Соколова Ю.В. Русское неокантианство в оценке американского исследователя // Вестник РУДН. Серия : Философия. 2023. № 2 (27) С. 482-490.
- Фролова Е.А. Право и личность в неокантианской философии права // Основные тенденции развития современного права: право стран БРИКС. Казань, 2024. С. 316-321.
дипломов
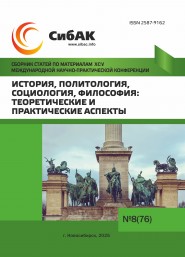

Оставить комментарий