Статья опубликована в рамках: XCV Международной научно-практической конференции «История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты» (Россия, г. Новосибирск, 04 августа 2025 г.)
Наука: Философия
Секция: Философские проблемы образования
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ НЕОКАНТИАНСТВЕ: ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PHILOSOPHY OF EDUCATION IN RUSSIAN NEO-KANTIANISM: FEATURES OF SCIENTIFIC EDUCATION METHODOLOGY
Zhuotsi Li
Master's Student of the Faculty of Arts «Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education" I.N. Ulianov Chuvash State University"»,
Russia, Cheboksary
АННОТАЦИЯ
Дискуссии о стратегиях и приоритетах развития философии образования вновь стали актуальными из-за распространения идей гуманистической педагогики и личностно-ориентированной модели обучения. В статье представлен обзор имеющегося опыта русских неокантианцев по вопросу интеграции личностно-развивающих методик в систему высшего образования. Основное внимание уделено рецепции и сопоставлению ключевых идей С.И. Гессена и М.М. Рубинштейна, как наиболее ярких представителей педагогической мысли из числа последователей кантовской философии в России. Основное содержание представлено кратким обзором наиболее известных положений практической философии С.И. Гессена и философско-педагогических исследований М.М. Рубинштейна о сущности «научного образования» и целях высшей школы в целом. В заключении обозначены положения, по которым можно включить исследования русских неокантианцев в область философии образования по критерию междисциплинарности обозначенных идей.
ABSTRACT
Discussions on the strategies and priorities of the development of the philosophy of education have become relevant again due to the spread of the ideas of humanistic pedagogy and the personality-oriented model of education. The article provides an overview of the existing experience of Russian neo-Kantians in integrating personality-developing methods into the higher education system. The main focus is on the reception and comparison of the key ideas of S.I. Gessen and M.M. Rubinstein, as the most prominent representatives of pedagogical thought among the followers of Kantian philosophy in Russia. The main content is presented by a brief overview of the most well-known provisions of the practical philosophy of S.I. Hessen and the conceptualization of M.M. Rubinstein's ideas about the essence of «scientific education» and the goals of higher education in general. In conclusion, the article outlines the criteria for including the research of Russian neo-Kantians in the field of educational philosophy based on the interdisciplinary nature of their ideas.
Ключевые слова: философия образования, методология образования, русское неокантианство, гуманистическая педагогика.
Keywords: philosophy of education, educational methodology, Russian neo-Kantianism, humanistic pedagogy.
Введение
Философия образования тесно сопряжена с проблематикой теории и методологии педагогики, а также с областью философской антропологии. В российском гуманитарном знании традиционно приписывают формирование философии образования творчеству религиозного мыслителя – В.В. Розанову. В то же время в философской мысли уже существовали предпосылки и истоки, выраженные в деятельности русских педагогов и ученых. Здесь стоит отметить труды философов, ориентированных на воспроизведение кантовских принципов практической философии. В их числе М.М. Рубинштейн, А.В. Вейдеман, С.И. Гессен, а ранее И.И. Лапшин и А.И. Введенский (в особенности вопрос о соотношении психологии и педагогики, обозначенный в труде «Психология без всякой метафизики» [2, с. 335-346]) [18, 10, с. 101-102; 16, с. 830-832]. Учитывая акцентирование внимания на основоположения принципов практического разума И. Канта и приоритета целевого отношения к человеку, их можно объединить в единую традицию русского неокантианства.
В частности М.М. Рубинштейн в труде по истории педагогики будет настаивать на первенстве кантовской позиции в формировании личностно-ориентированной педагогики: «(…) Основа законосообразности и научной стройности мира лежит не в нем, не в предметах, а в познающем субъекте, в «Я». На этом пути Кант и приходит к своему знаменитому выводу, что наш рассудок есть законодатель природы, то есть и здесь центр тяжести переместился в субъект, в личность, под знаком которой и развивалась вся педагогика XIX века, и развивается теперь; с тех пор понятие личности стало центральным лозунгом педагогики» [12, с. 241]. Подобное описание идей И. Канта в истории гуманитарной мысли будет свойственно многим российским авторам первой трети XX века, но неокантианцы развивали проект критической философии, не принимая его как готовую данность[1].
В то же время в области теоретической педагогики и философии образования в целом каждый автор представил оригинальный подход к тем или иным вопросам педагогики и дидактики. Основное внимание уделялось слаборазвитой в методологической перспективе теории высшего и научного образования. Под научным образованием в ряде случаев (у А.С. Лаппо-Данилевского, С.И. Гессена, Ф.А. Степуна и Б.В. Яковенко) подразумевается высшее профессиональное образование, но до второй половины XX века терминология не установилась в современных границах. В частности А.В. Вейдеман использовал термин послевузовское нравственное образование для обозначения научной деятельности в областях, несвязанных с точными и естественными науками [3]. То есть наличествует разделение на специфику гуманитарного и естественнонаучного высшего профессионального образования.
Несмотря на масштабность выбранной темы и объем имеющейся литературы [4, с. 51-52], основная база источников ограничена трудами русских неокантианцев (преимущественно С.И. Гессена и М.М. Рубинштейна), а также существующей рецепцией их теорий в современном научном дискурсе (работы В.Н. Белова, Л.И. Тетюева, И.В. Гребешева, М.Ю. Загирняка, П.А. Владимирова, А.В. Лебедевой, Я.Д. Гущина и др.)
Цель статьи – показать особенность восприятия высшего образования в трудах С.И. Гессена и М.М. Рубинштейна. Они подчеркивали необходимость подготавливать выпускников ВУЗов к развитию базовых навыков научно-исследовательской практики, что с их позиции отличает высшую школу от среднего профессионального образования [7; 11]. Ключевая задача – продемонстрировать включенность идей и основных положений русских неокантианцев в современные и актуальные проблемы высшего образования. Дополнительная задача – обозначить перспективы и ценности философии образования как необходимого компонента методологии и теории педагогики высшей школы при разрешении затруднений современной высшей школы. Методы рассмотрения ограничены системным подходом, сравнением ключевых положений, выявлением актуальных интерпретаций в научно-исследовательской литературе (преимущественно на основе научных статей), а также историко-философским анализом.
В данной статье будет использовано определение высшего профессионального образования как научного образования, которое экстраполировано в контекст авторских теорий философии образования русских неокантианцев. Основное внимание сосредоточено на трудах С.И. Гессена и М.М. Рубинштейна как наиболее известных ученых и философов в областях теории педагогики и философии образования.
Идея научного образования (М.М. Рубинштейн и С.И. Гессен)
Идеи С.И. Гессена и М.М. Рубинштейна в области образования и воспитания близки по целеполаганию. С точки зрения многих современных исследователей [1; 9; 10], объединяющими признаками являются: 1) приоритет личностно-ориентированной модели педагогики; 2) выделение принципов кантовской этики как основы для образовательного процесса; 3) неразрывность воспитания и образования в течение всего периода становления личности; 4) необходимость изменения педагогических инструментов и средств воспитания в процессе многоступенчатого образования. Другим объединяющим условием выступает следствие из признания кантовских основоположений практического разума – непрерывность самообразования и самовоспитания. То есть процесс обогащения знаний, приобретение умений и освоение навыков должен быть последовательным от школьного общего образования к высшему общему и высшему профессиональному (научному образованию) и сопровождаться постоянством самодисциплины.
По мнению С.И. Гессена, М.М. Рубинштейна, а также А.В. Вейдемана (что обозначено в дополнении к труду «Трагика как сущность искусства, религии и истории (Теория пантрагизма)» [3]) освоение комплекса научного знания не происходит на старших курсах университетского преподавания, а формируется посредством мотивации обучающегося в старшей школе, то есть в период осознанного выбора и ограничения своих стремлений. Здесь наиболее ярко выражается неразрывность технологий воспитания и образования, психологии и педагогики, философии и науки.
Ограничение стремлений есть приобщение к самодисциплине, то есть происходит формирование объектной области интересов, где обучающийся постепенно углубляется в проблематику науки [6]. Освоить научные методы и формы знаний без подготовительного этапа затруднительно и приводит к фрагментарности полученных навыков научной работы. Данная позиция позже выразится в установлении специалитета в советско-российской системе высшего образования, где старшие курсы (4 и 5, или 5 и 6 в зависимости от профиля обучения) включают научно-исследовательскую практику с потенциалом на продолжение обучения в аспирантуре. По С.И. Гессену цель образования в целом – это «культурные ценности, к которым в процессе образования должен быть приобщен человек» [5, с. 36], а цель научного образования «как направить всего человека на путь знания, приобщить его к науке, – это и должна установить теория научного образования» [5, с. 233]. При этом С.И. Гессен не является позитивистом или сторонником крайнего сциентизма, так как наука и нравственность, естествознание и искусство, философия и религия должны быть включены в предмет научного познания и в итоге стать частью целостного мировоззрения человека. Стоит согласиться, что «обозначив тесную взаимосвязь между педагогикой и становлением личности, вовлеченную в развитие всей культуры, Гессен выявил важную составляющую процесса образования – ориентированность на воспитание достойного человека, который не разрушает культурную традицию, а созидает ценности» [16, с. 837]. Нет противоречий в искусстве и науке, точно так же как в обыденном и научном опыте всегда есть положительные знания.
Наиболее известный труд по педагогике С.И. Гессена («Основы педагогики. Введение в прикладную философию») содержит обоснование не только педагогики как части практической философии в кантовском понимании, но и рекомендации к организации научного образования. В поздних работах С.И. Гессен обосновывает актуальное для современности положение о корреляции роста социальных институтов и экономики с успешностью реализации высшего образования[8; 17].
Следует выделить два значимых положения в педагогических исследованиях С.И. Гессена:
1. Формирование самодисциплины обучающегося происходит постепенно от среднего общего к высшему образованию. На момент перехода к научному образованию (старшие курсы высшего общего образования и высшее профессиональное образование) должно осуществляться изменение роли педагога с «учителя» на «наставника», который формируют не столько базис научного знания, сколько этику самостоятельной научно-исследовательской работы. Любой специалист и человек с высшей квалификацией (в настоящем выпускники аспирантуры приобретают высшую профессиональную квалификации по профилю подготовки) должны обладать исключительными знаниями и навыками, но в тоже время должен быть способным «к продуцированию культурных ценностей» [10, с. 101] и к последующей передачи накопленного опыта.
2. Образование и воспитание составляют предмет педагогики, но теоретические основы и интеграция в социально-исторические процессы происходят посредством философии. Поэтому педагогическая теория составляет предмет практической философии, а предметные и дисциплинарные решения организации педагогического процесса являются предметом педагогики как самостоятельной отрасли научного знания. Данное положение магистральной линией проходит через всё содержание работы «Основы педагогики. Введение в практическую философию» [5]. Как следствие, русский философ и педагог отчетливо обозначает предмет философии образования и ее ценность в социально-общественной практике.
В трудах М.М. Рубинштейна большее внимание уделяется историческим предпосылкам развития педагогики от идей эпохи Просвещения до начала XX века. Если С.И. Гессен отталкивается от критического переосмысления социально-этических идей и аксиологии Баденской школы, а также методологии социальных наук Марбургской школы в синтезе с первоистоками кантовской системы критического идеализма, то М.М. Рубинштейн последовательно и с точностью историко-философского анализа реконструирует педагогические теории. С позиции М.М. Рубинштейна, цель философии – установить критически допустимую (в кантовском смысле) форму мировоззрения, подспорьем для которого служит педагогика как учение о начальном воспитании и образовании личности. Педагогика не является частью практической философии в системе критической философии, однако неизменно с ней связана, так как вопрос формирования личности является центральным и ключевым как в философии и психологии, так и в педагогических науках. В дальнейшем позиция о согласованности и фактическом междисциплинарном пересечении философии, социологии, психологии и педагогики станет основным вектором исследований М.М. Рубинштейна. Здесь стоит отметить работы «Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой» (1913 г. и заметно расширенное издание 1920 г.) [13], «Психология, педагогика и гигиена юности» (1926 г.) [15], «Проблема учителя» (1927 г.) [14].
Педагогика и философия в своей согласованности способствуют созданию условий для воспитания самостоятельной, образованной и нравственной личности, ориентированной на развитие культуры и постоянное совершенствование собственной природы. Именно такой вывод следует из первой работы по педагогике М.М. Рубинштейна – «Идея личности как основа мировоззрения» (1909 г.) [11]. Понятие личности как центрального предмета социально-гуманитарных наук и приоритет кантовской философии выразятся в преобладании идей личностно-ориентированного подхода на ступенях высшего образования. М.М. Рубинштейн положительно высказывался о многоступенчатой форме образования с соблюдением принципа преемственности учебных планов, но при изменении стратегий проведения занятий и соответствующих им изменений в учебных материалах.
При начальном и среднем образовании должен господствовать принцип назидания и авторитарности учителя (только принцип, а не фактическое подавление авторитетом учителя формирования личности воспитанника), но при переходе к более высоким ступеням образования, педагог должен стать наставником и даже коллегой (в работах после 1926 г. использует термин «преподаватель» в противоположность «учитель»). В данных положениях идеи М.М. Рубинштейна сопоставимы с трехступенчатой формой воспитания в процессе смены ступеней образования С.И. Гессена.
Хотя позиции М.М. Рубинштейна в вопросе о значении личности и дифференциации дидактических условий организации образовательного процесса близки представлениям С.И. Гессена, есть существенное различие в понимании исходных оснований, а именно кантовской философии. В трудах М.М. Рубинштейна, особенно в работе «История педагогических идей в ее основных чертах» [12, с. 240-243], обнаруживается влияние А.И. Введенского и А.С. Лаппо-Данилевского. Они настаивали, что проект системы критической философии И. Канта является исходной архитектоникой, а позиции немецкого неокантианства (Марбургской и Баденской школ) лишь интерпретации и дополнения к первоначальной цели критицизма [10]. Для воплощения идей критицизма следует обращаться к первоисточнику, то есть к положениям И. Канта и только после использовать, при необходимости, имеющиеся системные представления о сущности и задачах трансцендентального идеализма на принципах критического мировоззрения. С.И. Гессен же в большей степени был сторонником немецкого неокантианства, и в меньшей мере обращается именно к И. Канту при описании функции педагогики, а также задачам научной этики (преобладают отсылки к Г. Риккерту и П. Наторпу).
Различие обнаруживается и в вопросе о значении коллективных занятий и трудовой школы. Для С.И. Гессена коллективная форма обучения представляет собой необходимость, которую следует преодолевать по мере формирования возможностей [8]. В особенности на уровнях высшего образования индивидуальный подход представляется более ценным для задач научного образования. В то же время М.М. Рубинштейн высказывается о целесообразности коллективных форм образования на всех его ступенях, поскольку данный процесс способствует в большей степени социализации личности и приобщения к социальным ценностям (ценности, которые трансформируются в истории и не являются общекультурными или общечеловеческими) [13; 14]. Поскольку личность формируется в процессе всей своей жизни (с данным положением был согласен С.И. Гессен), постольку коллективные и совместные мероприятия всегда оказывают положительное влияние на психологический компонент самообразования. Это происходит посредством поддержания мотивации и цели постоянного обогащения своих знаний, то есть знания ценны не только для человека, но и для социума [14].
Заключение
Стоит отметить, что процессы образования и воспитания рассматриваются русскими неокантианцами комплексно, при этом учитываются факторы личностного развития, социальная динамика, исторические перспективы. Как следствие, область рассмотрения прикладных вопросов педагогики дополняется методологическим и междисциплинарным контекстом, а также расширяется посредством социальных и этических теорий. В итоге, явно формируется область философии образования, где совмещаются психолого-педагогические, социально-экономические и исторические исследования.
Перспектива для актуализации теорий научного образования русских неокантианцев может быть обозначена в следующих положениях:
1) интеграция личностно-ориентированных моделей в систему научного образования; 2) сохранение преемственности образовательного процесса по форме в многоступенчатой модели, но при этом изменение по содержанию используемых педагогических технологий (изменение формата лекций и практических занятий, углубление и проблематизация научных теорий на семинарах, введение открытых дискуссий и т.д.); 3) нахождение оптимальных стратегий формирования самодисциплины обучающихся и приобщения их к самостоятельности следования нормам научно-исследовательской практики и этики.
Данные положения не потеряли своей актуальности и могут стать объектом для дальнейшего исследования в области философии образования или истории философии.
Список литературы:
- Белов В.Н., Владимиров П.А. Русское неокантианство: опыты (само)определения и современная перспектива // Трансцендентальный журнал. 2021. №3 (6). [Электронный ресурс]
- Введенский А.И. Психология без всякой метафизики. СПб., 1917. 359 с.
- Вейдеман А. В. Трагика как сущность искусства, религии и истории (Теория пантрагизма). Рига, 1936. 336 с.
- Владимиров П.А., Слепухина Д.А. Неокантианство в истории русской философии: проблемы историко-философской реконструкции // Контекст и рефлексия: Философия о мире и человеке. 2024. №9 (13). С. 51-60.
- Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995. 448 с.
- Гессен С.И. Свобода и дисциплина. СПб., 1917. 32с.
- Гессен С.И. Теория нравственного воспитания // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1919. №8. С. 123-136.
- Гессен С.И. Эволюция единой трудовой школы в Советской России // Русская школа за рубежом. Прага, 1925. Кн. 15-16. С.226-242.
- Гребешев И.В. Философия воспитания и образования М.М. Рубинштейна // Вестник РУДН. Серия : Философия. 2014. №3. С. 88-92.
- Лебедева А.В., Владимиров П.А. Нравственные основания теории обучения и воспитания в русском неокантианстве // Высшее образование в России. 2022. №3 (31). С. 96-107.
- Рубинштейн М.М. Идея личности как основа мировоззрения. Критически-философский очерк. М., 1909. 124 с.
- Рубинштейн М.М. История педагогических идей в ее основных чертах. 2-ое издание. Иркутск, 1922.
- Рубинштейн М.М. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. М., 1920. 540 с.
- Рубинштейн М.М. Проблема учителя. М., 1927. 173 с.
- Рубинштейн М.М. Психология, педагогика и гигиена юности. М., 1926. 264 с.
- Тетюев Л.И., Гущин Я.Д., Владимиров П.А. Корреляция свободы и творчества в концепции нравственного образования С.И. Гессена // Современное культурно-образовательное пространство гуманитарных и социальных наук. Саратов, 2020. С. 829-838.
- Hessen S. Pedagogia e mondo economico // I problemi della pedagogia. Roma, 1954. 96 s.
- Zagirnyak M.Y. Philosophy of Landscape in Fedor Stepun’s Model of Socio-Cultural Development // RUDN Journal of Philosophy. 2023. №3 (27). P. 713-725.
дипломов
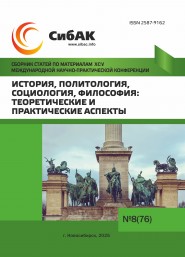

Оставить комментарий