Статья опубликована в рамках: XCIV Международной научно-практической конференции «История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты» (Россия, г. Новосибирск, 02 июля 2025 г.)
Наука: Философия
Секция: Социальная философия
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ЭКСТРЕМИЗМА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО СОЦИУМА
CULTURAL DYNAMICS OF EXTREMISM IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF GLOBAL SOCIETY
Alexander Borisov
Candidate of the Department of Social Sciences and Humanities, Platov South Russian State Polytechnic University (NPI),
Russia, Novocherkassk
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается глобальная модернизация, представляющая собой сложный и многоаспектный процесс, затрагивающий все сферы общественной жизни, который парадоксальным образом становится питательной средой для экстремизма. Интенсивные социальные трансформации, ломка традиционных устоев и культурных кодов, расширение информационного пространства и миграционные потоки создают атмосферу нестабильности и неопределенности, которая может быть использована экстремистскими группировками для достижения своих целей.
ABSTRACT
The article examines global modernization, which is a complex and multidimensional process affecting all spheres of public life, which paradoxically becomes a breeding ground for extremism. Intensive social transformations, the breaking of traditional foundations and cultural codes, the expansion of the information space and migration flows create an atmosphere of instability and uncertainty that can be used by extremist groups to achieve their goals.
Ключевые слова: экстремизм; наука; глобализация; Модерн; десакрализация; эмансипация
Keywords: extremism; science; globalization; Modernity; desacralization; emancipation
Экстремизм как феномен культуры и социума в первую очередь связан со становлением и развитием современной капиталистической эпохи, в которой индивид во многом утратил прочные связи с коллективом и стал в большей степени самостоятельно репрезентировать себя в окружающем его мире. Очевидно, что именно начиная с периода раннего Модерна темп жизни человека все в большей степени стал ускоряться, а его «жизненный мир» подвергся заметной глобализации [1]. Образ жизни «среднего» человека претерпел разительные изменения в течении последних нескольких веков в результате постоянного внедрения в повседневность новых технологий, что стало возможно по причине становления и институциализации современной науки и техники.
Вместе с тем до вступления человечества (или по крайней мере существенной его части) в эпоху Модерна экстремальные формы поведения отдельных индивидов, выходящие за принятые социокультурной нормы, довольно жестко пресекались, особенно, если они угрожали безопасности окружающих [10]. С другой стороны, поведение, которое, начиная с эпохи Модерна, стало считаться экстремальным (в первую очередь речь идет о крайнем применении насилия и жестокости), рассматривалось как одна из норм борьбы за существование. При этом отдельные лица, поведение которых выходило за установленные нормы (и возможно, обладающие психическими отклонениями), рассматривались не как экстремисты, а скорее, как странные люди, причем иногда наделенные сверхспособностями (например, к прорицанию).
Однако затем в эпоху Модерна об экстремизме можно говорить в первую очередь как о феномене политической культуры («просвещенного») Запада, причем именно как о необходимом явлении и спутнике демократической культуры. Так, в значительной степени именно экстремизм в своей политической версии стал неотъемлемым спутником революций Нового времени, носящих в той или иной степени социалистический или даже национальный характер. В свою очередь можно рассматривать политический экстремизм как своеобразный эффект, возникший в эпоху Просвещения, в период которой были выдвинуты идеи о радикальном преобразовании современного мира, которые могли осуществляться в том числе и насильственным путем и даже путем откровенного (революционного) террора [9].
Существует мнение о том, что сами революции, по крайней мере в их современном значении, были порождены развитием капиталистического общества. Очевидно, что предшествующие эпохи не знали профессиональных революционеров-интернационалистов, многие из которых были экстремистами и даже открыто декларировали необходимость внедрения террористических мер в отношении своих политических противников. В данной связи, например, современный отечественный исследователь Э.Э. Шульц отмечает, что «революция» представляет собой «лифт цивилизаций, возникших после Древнего мира, в состояние Нового времени… В истории пока были только революции, которые привели к свержению феодальных и полуфеодальных порядков и прошли в качестве национально-освободительных движений. Революции – это продукт ранних капиталистических отношений в их борьбе с феодальным строем, и вне капиталистической формации революции не известны» [14, с. 317]. Вместе с тем, вполне очевидно, что рост экстремистских практик в перманентной революционной борьбе не в последнюю очередь был связан с ростом свободы, особенно в среде городского населения (городских обывателей и представителей «третьего сословия»).
При этом революционеры не только оперировали идеей общего блага, необходимостью внедрения социального равенства, но и апеллировали к науке, пытаясь и свои учения репрезентировать не как, например, религиозную догму, а представить их как совокупность исключительно научных истин. Таким образом, в период революций, особенно с середины XIX века, даже многие идеологи террора стали позиционировать себя учеными, ориентированными на позитивное (и практическое) знание мира, несмотря на то, что их произведения содержали открытые призывы к насилию в отношении целых социальных групп, которые провозглашались угнетателями.
Вместе с тем ясно, что пафос науки Нового времени во много зиждился на ее практической значимости, то есть способности радикальным образом преобразовать окружающий человека мир и самого человека, подогревая в нем страсть господства над природой. Успехи науки породили особую «позитивную» веру в человеческий разум, способный не только действовать критическим образом, но и освободить человека от традиционных предрассудков и религиозной морали. В целом также возникла и современная наука, в основу которой «было положено четкое осознание, что только развитие техники и технологии способно кардинально решить проблему материального богатства и могущества общества. Поэтому новые виды техники и технологий могут быть созданы только на основе развития естествознания, математики и технических наук. Объективная истина и истинное мировоззрение по-прежнему считаются целью науки, но к ней добавляется существенное уточнение – научная истина должна быть также и практически полезным знанием» [6, С. 84]. Тем не менее, для науки, как в прочем и для ряда философских направлений, включая, конечно же, марксизм, во многом основополагающим стал деятельный подход, который причем активно пытались применить к социуму и культуре.
Таким образом, сами представители современной науки не могли уже довольствоваться дескрипцией и созерцанием (например, природы), но стремились к господству над природными стихиями и преобразованию мира по заранее спроектированной антропологической мерке. В данной связи стоит отметить, что многие ученые перестали стесняться крайних взглядов в отношении устройства человека, животных и природы. При этом сама наука усиленно популяризировалась в массе (причем не очень образованного населения), появлялось множество журналистов и публицистов от науки, которые, впрочем, далеко не всегда сами были настоящими учеными.
Вместе с тем, развитие современной науки способствовало радикальной десакрализации всего известного нам мира. В нем становилось все меньше тайн, по крайней мере рассуждения о тайне мироздания и вовсе покинули научный дискурс, в результате произошло «расколдовывание мира», о котором писал М.Вебер [2, 3]. К тому же в научной картине мира уже не нашлось места для различных ангелов и архангелов, которые, следуя божественной воле, охраняют человечество от впадения в последние крайности. Таким образом, за расколдовыванием мира последовало и великое разочарование во всей окружающей вселенной и в способностях человека, а главное – масштабировались сомнения в его дальнейшей (в том числе и посмертной) судьбе.
Однако, новая наука, несмотря на декларации философов-позитивистов, так и не стала доминирующим институтом социальной и политической власти, а сами ученые не могли конкурировать в этом плане с профессиональными революционерами и политиками. Более того, в истории тоталитарных режимов были зафиксированы случаи, когда ученые (фактически как самостоятельный класс) подвергались системным репрессиям. Таким образом, все-таки нельзя до конца отождествлять волю к познанию, которая направляет представителей научного этоса, и волю к власти [8], характеризующую главным образом деятельность политиков и революционеров.
Конечно, нельзя возлагать на науку Нового времени ответственность за появление и рост числа экстремистов (в их современном понимании, включая идейных экстремистов), но следует признать, что массовое распространение научных данных во многом способствовало появлению интеллектуалов, мыслящих экстремально в отношении к обществу, в котором они живут. Поэтому проекты радикального преобразования человека, социума и окружающего мира во многом стимулированы ростом научных знаний и их проникновением в широкие слои населения [7], тогда как желающие социальных преобразований революционеры, готовые действовать как настоящие экстремисты, мыслили себя как поборники вполне научно-обоснованных идей и проектов.
В результате модернизации были выявлены и границы современной науки, с которыми человеку пришлось соизмерять и собственную проектность. Так, например, Г.Л. Тульчинский полагает, что «высшим достижением “западного” рационализма явилось становление и развитие науки как сферы деятельности, специализирующейся на открытии объективных истин, носящих всеобщий характер, – законов. Исходной идеей и истоком формирования “западного” рационализма была трактовка познания как осознания разумного и целенаправленного “замысла”, проявляющегося в продуктах деятельности некоторого творческого начала» [11, С. 367]. Таким образом, внимание индивида все больше смещалось в сторону рациональной и фактически инструментальной деятельности, которая в той или иной степени попадала в зависимость от достижения экономической выгоды.
Ясно, что отличительной чертой новой науки стало внимание к технике и технологиям, которые привели к массовой автоматизации жизни современного человека. В результате детерминизм природы был скорректирован, но отчасти сменился детерминизмом техники. Отсюда также стали проистекать многие проблемы, связанные с разрушительным влиянием техники человека на природу, которые приняли вполне крайние (экстремальные) формы. Таким образом, человечество в целом оказалось способным впадать в крайности в отношении природы и собственного жизненного мира, который до сих пор находится под угрозой хищнического использования природных ресурсов, способного привести к экологической катастрофе [13].
Таким образом, в целом произошла инструментализация человеческого (коллективного) разума, в результате чего последовал революционный сдвиг приоритетов от созерцания к утилитарной деятельности. Научно-технический прогресс выступил в свою очередь на мировую арену в качестве своеобразной технократической идеологии, часто маскирующейся под технологии рационального управления. В данной связи немецкий современный философ Ю. Хабермас полагал, что «как бы то ни было, достижения техники, сами по себе непреложные и, разумеется, невозможно заменить природой, хотя и смотрящей на нас открытыми глазами. Альтернатива существующей техники – проект природы как партнера, а не предмета, связана с альтернативной структурой деятельности: с символически опосредованной интеракцией, отличной от целерационального действия» [12, С. 61]. Вместе с тем, не совсем понятно, как современный человек, пользующийся всеми благами цивилизации и воспитанный в условиях беспрецедентно господства (в том числе уже и над самим человеком) техники, сможет на практике относиться к природе как к своему равноценному партнеру.
Таким образом, стремление человека к крайностям приобрело существенное ускорение именно в эпоху Модерна, причем в определенной степени выступило важным компонентом преобразования окружающего мира и человеческого социума. Пожалуй, что подобного рода радикальные преобразования существования современного человека оказались невозможны без волны экстремизма, которая охватила различные стороны жизни, проникнув в искусство, религию, политику, а отчасти даже в научное мировоззрение. При этом серьезное распространение экстремизма в Европе было во многом связано с массовой популяризацией атеизма, который именно в рамках европейской культуры достиг своего максимума [5]. Более того, атеизм рассматривался в XIX веке как своего рода ресурс политической борьбы и свержения прежних (освещенных религиозным авторитетом) монархий.
Кризис традиционной религии в христианском мире очевидно способствовал росту экстремистских настроений, в том числе и в среде простого народа. Вместе с тем, борьба с так называемыми клерикалами интерпретировалась в терминах классовой и политической борьбы, а иногда и вовсе выдавалась за решение проблемы национального возрождения. Ясно, что прежние религиозные нормы контроля были существенно повреждены и лишились значительной части собственной силы в результате проникающего воздействия научного мировоззрения, которое также было способно принимать радикальные формы (и быть откровенно враждебным по отношению к религии).
К тому же многие революционеры рьяно пропагандировали безбожие среди трудового народа – рабочих и крестьян, стремясь таким образом дискредитировать религию как таковую в собственных (политических) интересах. В целом различные движения, направленные на эмансипацию человека от традиционных институтов (например, семьи и брака), зачастую выбирали в качестве собственной, причем политической, идеологии именно атеизм. Вместе с тем, необходимо также было предложить населению и различного рода суррогаты (заменители) традиционной религии, которые могли быть оформлены как идеологии, направленные на эмансипацию человека от прежних религиозных установок сознания и соответствующих паттернов поведения [4].
В результате проведенного нами анализа социокультурной динамики экстремизма можно сделать вывод, что именно в эпоху Модерна данное явление приобретает свои современные формы, отчасти представляя собой негативную реакцию на трансформацию культуры и социума. В значительной степени полное или даже частичное разрушение традиционных обществ способствовало обнаружению и выходу на поверхность культурной жизни многообразных экстремистских тенденций, многие из которых канализировались посредством религии, политики, искусства и даже науки. Вместе с тем, системный экстремизм превратился в неотъемлемый компонент политической борьбы, как, впрочем, и борьбы за политические права (в том числе и разнообразных меньшинств), которая зачастую осуществлялась под демократическими лозунгами и требованиями освобождения человека от влияния целого ряда традиционных институтов культуры (таких, например, как семья, религия и т.д.).
Список литературы:
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-традиция. 2000. 381, [2] с.
- Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. 656 с.
- Вебер М. Образ общества. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. 767 с.
- Дестют де Траси, А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном смысле слова. М.: Академический Проект, 2013. 334 с.
- Жувенель Б. де. Власть: Естественная история её возрастания. М., 2011. 546 с.
- Лебедев С.А. Аксиология науки: ценностные регуляторы научной деятельности // Вопросы философии. 2020. №7. С. 82-92.
- Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории. СПб.: Владимир Даль, 2000. 538 с.
- Ницше Ф. Воля к власти. М.: Эксмо, 2017. 608 с.
- Сазонов, И.А. Природа и исторические формы политического экстремизма. На примере политического развития России в XX веке. Дис. … канд. полит. наук. Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. 227 с.
- Теннис, Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии. М.: Фонд Университет: СПб.: Владимир Даль, 2002. 450, [1] с.
- Тульчинский Г. Л. Философия поступка: самоопределение личности в современном обществе. СПб.: Алетейя, 2020. 826 с.
- Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М.: Праксис, 2007. 201 с.
- Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума. М.: Канон+, Реабилитация, 2011. 224 с.
- Шульц Э.Э. Теория революции: Революции и современные цивилизации. M.: URSS, 2016. 394 с.
дипломов
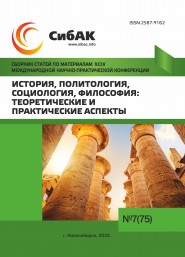

Оставить комментарий