Статья опубликована в рамках: LVI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история» (Россия, г. Новосибирск, 16 декабря 2015 г.)
Наука: История
Секция: Этнология
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
дипломов
Статья опубликована в рамках:
Выходные данные сборника:
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В ИСТОРИОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ П.Я. ЧААДАЕВА
Петько Андрей Андреевич
канд. филос. наук, доцент
Уральского Федерального Университета
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: k-29671@planet-a.ru
Петько Ольга Михайловна
канд. ист. наук, зав.кафедрой гуманитарного образования, доцент
Уральского Федерального Университета
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: o.m.petko@urfu.ru
QUESTIONS OF NATIONAL IDENTITY IN HISTORIOSOFIC CONCEPTION OF P.YA. CHAADAYEV
Andrey Petko
candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Ural Federal University,
Russia, Ekaterinburg
Olga Petko
candidate of Historical Sciences, Head of Humanitarian Education, Associate Professor
of Ural Federal University,
Russia, Ekaterinburg
АННОТАЦИЯ
Целью работы является уточнение вклада П.Я. Чаадаева в решение проблемы культурной идентичности России. На основе анализа оригинальных работ мыслителя и отечественных исследований его творчества решались задачи раскрытия культурно-исторических и концептуальных оснований формирования российской историософской традиции. С учетом эволюции взглядов и своеобразия языка философа использован метод реконструкции, позволивший предложить расширенную интерпретацию некоторых используемых им понятий, а также ввести дополнительные, присутствующие в его текстах лишь неявным образом. Основной итог работы представлен в реконструированной концептуальной модели российской истории, в которой выражено пониманием Чаадаевым ее логики и смысла.
ABSTRACT
The paper aims at specifying the contribution made by P.Y. Caadayev to the solution of the problem of Russia’s cultural identity. It addresses the issues of describing cultural, historical and conceptual foundations of establishing Russian historiosophical tradition. Taking into account the evolution of views and the diversity of the philosopher’s language, the paper uses the reconstruction procedure allowing to suggest the expanded interpretation of some concepts used by him, and to introduce some additional ones that are only implicitly present in Chaadaev’s works. The main outcome of the paper is presented in the form of the reconstructed conceptual model of the Russian history, which expresses Chaadaev’s understanding of its logic and sense.
Ключевые слова: самосознание; судьба; личность; социальный организм; историко-культурная традиция; христианоцентризм.
Keywords: self-awarennes; destiny; personality; social organism; historical and cultural tradition; Christian-centrism.
Самосознание народа осуществляется в специфических формах, обусловленных особенностями культурно-исторического развития общества. В зависимости от внешних обстоятельств, а также внутреннего состояния общества и степени развитости элементного состава его культуры происходит смена господствующих форм национальной саморефлексии.
Что касается периода первой половины XIX века, то, в интересующем нас плане, он ознаменовался возникновением феномена русской религиозной философии. Именно в русле развития этого направления духовных поисков получены наиболее оригинальные и культурно значимые результаты общенационального характера, в том числе и имеющие отношение к истолкованию смысла и логики российской истории.
Петр Яковлевич Чаадаев занимает особое место в самобытной русской философии. Это место чаще всего обозначают словом основоположник: именно так его характеризуют первые биографы М.И. Жихарев и Н.Н. Пузанов Один из них утверждает, что Чаадаев является «самым крепким и самым глубоким мыслителем из всех, кого когда-либо рождала русская земля», второй называет его «первым по времени философом истории на Руси». Выдающуюся роль Чаадаева в возникновении феномена русской философии признает, хотя и косвенно, также и Н.О. Лосский. Связывая начало самостоятельной философской мысли в России «с именами Ивана Киреевского и Хомякова» [9, с. 25] и квалифицируя Чаадаева как «западника, отличающегося непостоянством взглядов» [9, с. 68], Н.О. Лосский завершает анализ его взглядов следующим выводом: «Мысли, близкие к мировоззрению славянофилов Чаадаев выразил до того, как последние развили свое учение» [9, с. 72]. Аналогичную оценку значения Чаадаева для русской встречаем и у современных исследователей, связывающих с его именем «первый опыт оригинальной историософии» [11, с. 6].
Чаадаеву суждено было артикулировать и сделать предметом общественного осознания те интуиции, которые питали первые самостоятельные направления общественно-политической мысли России – западничество и славянофильство. Во многом благодаря влиянию Чаадаева в этих направлениях исследовательский интерес смещается в сторону поиска философско-мировоззренческих оснований гражданской позиции человека.
В творческом наследии Чаадаева встречаются высказывания, созвучные как западничеству, так и славянофильству. Но поскольку при жизни автора было опубликовано только несколько отрывков из его сочинений и первое «Философическое письмо», выдержанное в резко критических тонах в отношении России и восторженно-хвалебных тонах в отношении Запада, то за Чаадаевым надолго закрепилась репутация адепта западничества. В связи с публикацией, уже в двадцатом столетии, остальных произведений «басманного философа», значительная часть которых выдержана в духе славянофильства, некоторые исследователи зачисляют его в разряд славянофилов. Возникла проблема противоречивости авторской позиции и, надо сказать, для этого в творчестве Чаадаева содержится достаточно оснований. Прежде всего, – это эпистолярный жанр и свойственный ему характер ситуативного реагирования на проблему; на это справедливо указывал еще В.В. Зеньковский [3, с. 167]. Кроме того, литературный стиль изложения и ослабленная формально-логическая составляющая аргументации имеют своим следствием содержательную неоднозначность некоторых авторских идей. Чаадаев и сам это признавал в письме А.И. Тургеневу: «Я – не из тех, … кто подводит все …под свою теорию, я неоднократно менял свою точку зрения на многое» [16, с. 283].
Кем был на самом деле Чаадаев – западником или славянофилом? В такой постановке проблема носит сугубо абстрактный и потому мнимый характер. Противоречия такого рода легко разрешаются посредством учета двоякого рода обстоятельств. Во-первых, признанием эволюции взглядов как необходимого условия творческого развития мыслителя, и, во-вторых, реконструкцией его концепции в качестве контекста и предельного основания для решения частных вопросов. В этом направлении усилиями отечественных исследователей за последние тридцать лет сделано очень много, и содержательных предпосылок для решения означенного вопроса сегодня вполне достаточно. Что касается общей направленности его разрешения, то для нее характерен акцент на эволюционном аспекте и раскрытии обусловленности изменения взглядов философа социально-историческими факторами. Таким образом обосновывается наличие в учении Чаадаева взаимоисключающих идей: на раннем этапе своего творческого развития он тяготел к западничеству, на позднем – к славянофильству. Большинство исследователей связывают этот поворот с осмыслением Чаадаевым событий июльской революции 1830 года во Франции, получившим отражение в его эпистолярном наследии тридцатых – сороковых годов Х1Х века. М. Гершензон даже устанавливает точную дату начала поворота – 1833 год – год публикации сочинения Ястребцова, в котором «страницы, посвященные характеристике России, представляют собой изложение мыслей Чаадаева» [2, с. 144] и в то же время являются первым печатным (хотя и анонимным) выражением новой позиции философа.
Такая точка зрения справедлива лишь отчасти, поскольку в ней концептуальный статус учения Чаадаева остается неопределенным. Подспудно как бы напрашивается вывод о том, что по молодости он заблуждался, а в зрелые годы прозрел и тем самым подтвердил истину славянофильства. Думается, что сама исходная установка определить философскую позицию Чаадаева под углом зрения дилеммы «западник-славянофил» является непродуктивной, поскольку, будучи предтечей западничества и славянофильства, он оставался оригинальным мыслителем на всех этапах своего развития. Более того, он решительно возражал против ложных идентификаций в свой адрес.
Справедливости ради, следует заметить, что Гершензон в вопросе об эволюции взглядов Чаадаева занимал весьма тонкую позицию. Он полагал что, несмотря на очевидную разницу идейных ориентаций Чаадаева до и после 1830-го года, «априорные историко-философские убеждения» его «остались неизменными. Перемены коснулись только частного пункта, каким был его прикладной вывод относительно России» [2, с. 142].
Западником в классическом смысле Чаадаев быть не мог уже хотя бы потому, что был религиозным мыслителем и убежденным монархистом, а в понимании исторического процесса придерживался идей провиденциализма и органической логики. Именно с этих позиций он оценивал оба направления русского западничества. Хорошо известны его афористические высказывания на этот счет, в которых выражено не только несогласие с позициями либералов (либеральных демократов) и социалистов (революционных демократов), но и содержатся идейные основания такого несогласия.
Один из афоризмов, адресованный либералам, гласит: «Русский либерал – бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это – солнце запада» [16, с. 213]. Чаадаев обвиняет либералов в том, что они отрицают органический характер исторического процесса и стремятся механически перенести опыт социально-экономического и духовного развития Запада на российскую почву, то есть сделать Россию «стопроцентной европейской страной», причем в весьма короткие сроки. По мнению Чаадаева, такого рода стремления лишены смысла, а попытки их осуществления имеют двоякий исход: либо механические преобразования захлебнутся и адаптируются национальной органикой, либо генетическая основа социального организма будет разрушена и он погибнет.
Чаадаев считает, что более вероятен первый исход, аналогом которого может служить опыт петровских реформ. Будучи одним из самых образованных людей своего времени, он знал, что впечатляющие результаты реформаторской деятельности Петра 1 первой четверти XVIII века практически сошли на нет уже к концу столетия. Завершение этого процесса Чаадаев связывает с преодолением идейной зависимости от Запада, поскольку «вторжение западных идей … парализовало наши силы, извратило все наши прекрасные наклонности, исказило все наши добродетели» [16, с. 299]. В письме А.И. Тургеневу 1835 года он считает это преодоление свершившимся фактом: «Роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава богу, больше не принадлежим Европе» [16, с. 243]. Однако, десятилетие спустя, в письме графу Сиркуру Чаадаев вынужден признать, что эта работа еще продолжается: «Итак, мы должны вернуться назад, должны вернуться в то прошлое, которое вы так злобно похитили у нас…Вот работа, которой заняты теперь все наши лучшие умы, к которой я присоединяюсь всей душой» [16, c. 299]. Тем не менее, в успешном завершении этого процесса он не сомневается, о чем свидетельствует следующее обращение к адресату: «Если вы, спустя несколько лет навестите нас, вы будете иметь полную возможность налюбоваться плодами нашего попятного развития» [16, с. 299].
Чаадаев не дожил до начала второй волны «вестернизации» России, но не сомневался в том, что это случится, а также и в том, что результат будет прежний. Так оно и вышло – либеральные реформы шестидесятых-восьмидесятых годов XIX века завершились контрреформами девяностых. По сути дела Чаадаев вводит идею контрреформы («попятного развития») как закономерности русской истории. Закономерный характер возвратного движения, в ходе которого неизбежно нейтрализуется часть привнесенных в социальный организм изменений, истолковывается им как частный случай действия закона эволюционного развития. Вот что он пишет по этому поводу в отрывке из исторического рассуждения о России: «История народов сызнова не переиначивается», народы «не в силах совершенно отрешиться от своих естественных начал и отправиться с точки совершенно иной» [16, с. 361]. При этом отмечается, что заимствования возможны, но при условии осознанного и дозированного характера его, то есть не надо быть «бессмысленными мошками», а ясно понимать, «что нам подобает заимствовать у Европы и что нам должно остаться чуждым» [16, с. 372].
Не известно, знаком ли был Чаадаев с ранними работами Ч. Дарвина по теории эволюции 1840/1850-х годов, тем не менее, его (Чаадаева) понимание эволюционного развития общества, если не терминологически, то по существу, выдержано вполне в дарвинистском духе. Например, он говорит о наличии у любого общества культурно-исторической традиции или «социального принципа» [16, c. 155], «естества» [16, c. 358], «начала силы и жизненности» [16, с. 367] как основания его самобытной целостности и определяющего фактора развития. Не отрицая влияния внешних факторов на историко-культурную традицию, Чаадаев, тем не менее, убежден в существовании некой меры ее допустимых изменений, превышение которой чревато гибелью социального организма. С его точки зрения такая угроза возможна, но маловероятна. Конечно, наличие рационально-волевого начала в социальных организмах расширяет границы их произвольного изменения, однако, не следует преуменьшать и степень устойчивости историко-культурной традиции. То, что формировалось веками и пронизало собой все «клеточки» организма, очень трудно вытравить и заменить новой структурой. Во всяком случае, в рамках эволюционного процесса. По сути дела Чаадаев придерживается принципа самоорганизации как глубинного основания механизмов изменчивости и наследственности и полагает наличие «высшей воли» в судьбах народов.
По поводу другого направления западничества Чаадаев выражается хотя и не столь резко, однако не менее критично: «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники» [16, с. 178]. Здесь мы не видим прямого и абсолютного отрицания правоты, которое имело место в отношении либералов. Здесь мысль философа обретает глубину и диалектичность, а отрицание обнаруживает момент сохранения. Иными словами, за социалистическими учениями признается относительная правота, но отрицается правота абсолютная.
Чаадаев предчувствует радикальные преобразования в обществе. В 1848 году в письме Ф.И. Тютчеву он отмечает такой рост радикальных настроений в стране, который позволяет говорить о борьбе «между революцией и Россией» [20, с. 339], которая, согласно его христианскому миропониманию, неизбежно обострит исконное противоборство божественного (духовного) и тварного (телесного) начал человеческого существа. В этом случае наиболее вероятным окажется силовое разрешение противоречия; любой из этих вариантов неприемлем для христианского мыслителя, который характеризует «революционное начало, как начало разрушения и крови» [16, с. 379]. Приведенное утверждение продиктовано не стремлением оправдаться перед властью, которая «увидела в Чаадаеве революционера», а логикой тех идей, которыми он «в действительности был близок…де Местру и Бональду» [1, с. 23]. Имеется в виду ряд теоретических положений католических мыслителей, на которые указывал П.Н. Милюков как на исходные предпосылки мировоззрения Чаадаева. Это, во-первых, идеи де Местра о «нации как индивидууме со своим характером и собственной миссией» и о сугубо мирном, естественном («без усилий») осуществлении этой миссии; во-вторых, – это идея Бональда о наличии в России «задатков идеального общественного строя» [2, c. 143; 11, с. 11].
Чаадаев предрекает победу социалистам, потому что их идеи в большей степени созвучны русской историко-культурной традиции, чем идеи либералов. Однако любая победа, даже если это победа наименьшего из зол, не может привести к окончательному разрешению противоречия; такое разрешение возможно лишь на путях ненасильственной гармонизации телесного и духовного начал в жизни человека и общества.
Очевидная близость взглядов Чаадаева идеям славянофильства не исключает и принципиальных различий этих двух позиций. Имеются в виду разные акценты в отношении способов достижения гармонии в рамках религиозно-философского подхода. Чаадаев исходит из приоритета личностного начала, в то время как славянофилы отдают первенство началу коллективному. Отсюда и различие историософских построений.
Чаадаев, в силу отмеченных ранее особенностей своего философского мышления, «затруднил для читателя уяснение его системы, – ее приходится реконструировать» [7, с. 167], причем иногда приходится это делать без опоры на текст – лишь «исходя из общего смысла его идей» [2, с. 150]. По свидетельству Зеньковского, «это впервые попробовал сделать Гершензон», а продолжил он сам. Опираясь на полученные при этом результаты, попробуем осветить те аспекты исторической концепции Чаадаева, которые связаны с путями созидания в России «благодатной социальности» [7, с. 184].
Как и его французский современник Огюст Конт, Чаадаев недоволен общим состоянием исторической науки. Его претензия в отношении российской историографии формулируется следующим образом: «Мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения…Пятьдесят лет назад немецкие ученые открыли наши летописи; потом Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей;…таков итог наших трудов по национальной истории…из всего этого мудрено извлечь предчувствие ожидающих нас судеб» [16, с. 155], а без этого «нет ни психологии, ни даже логики: все тьма и бессмыслица» [16, с. 260]. Под «философской точкой зрения» понимается установка на постижение «социального принципа» народной жизни как ее «движущей силы». «История – ключ к пониманию народа» [16, c. 48], а не изображение отдельных событий его жизни. Историческое познание имеет выраженную социальную проекцию, поскольку оно призвано обеспечить народу «ответственное вхождение в историческое действование» [7, с. 184]. Содержанием этого действования является «возможное и необходимое перерождение» [16, c. 69] социального организма в направлении полноты реализации изначально заложенного в нем «принципа».
Общие идеи философского понимания истории изложены Чаадаевым во втором и третьем философических письмах. Прежде всего, – это идея «христоцентризма» [7, с. 182], согласно которой человеческая история истолковывается как творение Царства Божия на земле под водительством церкви. С этих позиций трактуются вопросы содержания и движущих сил исторического процесса, логики и смысла мировой истории, соотношения в ней провидения и свободы, божественного и тварного начал, раскрывается тайна исторических судеб Запада и Востока и роль выдающихся личностей в обретении народами своего призвания [16, с. 56–78].
В интересующем нас плане хотелось бы обратить особое внимание на отстаиваемую Чаадаевым идею нелинейности мировой истории, которую В.В. Зеньковский сформулировал следующим образом: «Конечно, для Чаадаева есть «всемирная история», но ее суть не в смешении народов в космополитическую смесь, а в раздельной судьбе, в особых путях различных народов – каждый народ есть «нравственная личность» [7, с. 177–178]. Притом имеется в виду историческая природа «нравственной личности», эволюционирующей по пути изживания несовершенных форм своего совершенного содержания и вступления в «область разума предельного» [16, с. 210] в ходе реализации народом своей функции социального «субъекта». Сам Чаадаев формулирует эту идею следующим образом: «Всякий народ несет в себе самом особое начало, которое накладывает отпечаток на его социальную жизнь, которое направляет его путь на протяжении веков и определяет его место среди человечества» [16, с. 190].
В отношении русского народа понимание этого пути Чаадаевым (наиболее обобщенно и при отвлечении от многих аспектов) может быть представлено следующим образом. Глубинным основанием складывания «нравственной личности» русского народа и стержнем его историко-культурной традиции явилась православная идея. Исходя из рассуждений Чаадаева на данную тему, можно говорить о двояком пришествии православия на нашу землю и, соответственно, двух периодах российской истории. Первый период – от крещения Киевской Руси князем Владимиром до падения Византии, второй – с пятнадцатого века до девятнадцатого.
На первом этапе влияние православия усматривается, главным образом, в усвоении русским народом евангельских учений «в их первоначальной форме» [16, с. 305], то есть в качестве чистой догмы, без адекватной ей социальной составляющей. В это время христианство содержало в себе лишь «задаток» своего социального начала, которому еще только предстояло осуществиться в истории народов. К моменту принятия христианства Киевская Русь была уже достаточно сложившимся социальным организмом с присущим ему принципом организации, наиболее созвучным тому направлению осуществления христианской идеи, по которому пошла Византия.
Предпочтительность византийской версии христианизации общества была связана с мирным характером этого процесса на Востоке, в то время как на Западе «везде видим при распространении христианства кровавый бой между прошлыми верованиями и новыми в виде сил земных» [16, с. 358]. Хотя этот мирный характер имел своей основой деспотическую светскую власть, присвоившую «себе полновластие в религиозных делах» [16, с. 304], а своим отрицательным следствием – подавление социальной и интеллектуальной активности человека, тем не менее, он способствовал становлению христианской аскезы и культуры духовного созерцания, без которых было бы невозможно формирование христианского типа личности. Именно это начало византийского православия – нравственную идею в ее чистоте и непосредственности (в очищенном от ее деспотической социальной составляющей виде) унаследовала святая Русь. И именно по этой причине «нравственная идея христианства должна была оказать на этот народ только самое непосредственное свое действие, то есть до чрезвычайности усилить в нем аскетический элемент, оставляя втуне все остальные начала, заключенные в ней, – начала развития, прогресса и будущности» [16, с. 306]. Тем более что смирение и покорность были исконными качествами «этого народа», обеспечивающими мирный характер властных отношений на Руси. В силу наличия отмеченных народных качеств Русь была единственной страной, где вера Христова водворялась «без борьбы и без благовести, … достаточно было одной державной воли» [16, с. 359]. Чаадаев указывает на судьбоносный характер данного обстоятельства: «Мы, вероятно, были избраны провидением на то, чтобы явить свету пример народа чисто христианского» [16, с. 360].
Понимание Чаадаевым провиденциализма не является ортодоксально богословским, на что справедливо обратил внимание В.В. Зеньковский [7, с. 180]. Идея предопределения в нем сочетается с идеей свободы: «Всемогущая десница стремится привести человека к его конечной цели, не посягая на его свободу, не умерщвляя ни одной из его природных спосодностей» [16, с. 54]. такой провиденциализм может быть назван «вероятностным», а наиболее адекватным терминологическим выражением его сути являются такие слова, как «призвание» и «судьба». Еще в первом философическом письме Чаадаев указывает два фактора, влияющих на складывание исторического пути народа: это – «отчасти неисповедимый рок», «отчасти сам человек» [16, с. 48]. (Заметим в скобках, что слово «человек» часто используется Чаадаевым в смысле «коллективный человек» – народ или человечество). В соответствии с этим он различает два уровня понимания исторического процесса – его глубинное основание в виде своеобразного метафизического «проекта» мирового разума или «христианской догмы», которая существует вне времени и пространства и потому «не подлежит ни развитию, ни совершенствованию» [16, с. 306]; и фактическое (социально-историческое) осуществление этого проекта посредством «многочисленных применений» христианской догмы «в зависимости от условий национальной жизни» [16, с. 306]. А это значит, что человек (народ), хотя и «обладает достаточной свободой, чтобы быть ответственным за историю» [7, с. 183], однако, лишь в отношении конкретной формы осуществления своего призвания (то есть в отношении «делегированной» ему провидением части мирового проекта), но не в отношении всего исторического процесса в целом. Иными словами, народы ответственны за то, насколько они оказались верны своему призванию в испытаниях, выпавших на долю их исторических судеб.
Первое тяжкое испытание для русского народа, существенно повлиявшее на его судьбу, – это «свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть» [16, с. 42]. Татаро-монгольское иго положило начало длительному процессу деформации социальных отношений в направлении все большего подавления свободы личности и формированию таких черт национального характера, которые препятствовали общественному прогрессу. «Именно татарское иго приучило нас ко всем возможным формам повиновения, оно сделало возможным и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, то же владычество облегчило задачу Петра Великого» [16, с. 286]. В целом, положительно оценивая смирение и покорность как духовно наполненные христианские переживания, Чаадаев обращает внимание на то, что в контексте извращенной социальной среды, они становятся условием все большего порабощения человека: «Христианское смирение прекрасно, и, осуществляя его, человек испытывает невыразимое счастье; к сожалению, при некоторых данных условиях оно приобретает вид низости» [16, с. 283]. Подчеркивая разительное отличие этих «некоторых данных условий» на Западе и в России, Чаадаев показывает, к каким последствиям они привели в исторической перспективе: «Начав с крепостной зависимости, крестьянин там пришел к свободе, – у нас же, начав со свободы, пришел к крепостной зависимости; там рабство было уничтожено христианством – у нас рабство родилось на глазах христианского мира» [16, с. 287].
Рабство это родилось не просто «на глазах христианского мира», но и при определенном идеологическом влиянии православной Византии. В десятом веке это влияние носило сугубо идейный характер, а уже явственно обозначившееся разделение церквей никак не отразилось на религиозном самосознании русского народа, который не отделял себя от всего христианского мира. В пятнадцатом же веке оно послужило каналом трансляции негативного социального опыта из одной мировой «окраины» в другую. Важнейшим событием этого этапа стало усвоение Россией позднейшей византийской версии православия, оказавшейся наиболее созвучной уже существенно трансформированному состоянию русской общины. Концепция «Третьего Рима», будучи религиозной формой ассимиляции позднего византизма, в то же время явилась средством ценностного наполнения искаженного варианта общинных отношений и освящения дальнейшего превращения их в отношения «рабские». В результате ассимиляции возникает своеобразный социокультурный комплекс, социальной составляющей которого оказывается община, а адекватной духовной надстройкой над нею – православие, с привнесенными в него элементами позднего византизма: обожествление светской власти, возведение покорности в добродетель, идея обособленного православного царства.
Схизма уже сама по себе является грехом, то есть нравственным пороком, а ее утверждение с помощью светской власти неминуемо оборачивается социальным злом: Византия пошла по этому пути и вместо «православного царства» оказалась «христианским халифатом» [16, с. 305] на «обочине» мирового прогресса, все больше превращаясь в «пустыню». Продолжив эту традицию, Россия обрекла себя на вековую отсталость.
В ходе воссоздания картины русской истории со всеми ее детализациями и уточнениями Чаадаев все более расширяет социально-исторический контекст осмысления волнующих его вопросов, стараясь приблизиться к истине. Такое приближение к истине наблюдается не только в отношении России, но и в отношении европейских стран. В результате одни сравнительные оценки раннего периода были радикальным образом пересмотрены, а другие существенно скорректированы. Неизменным остается только понимание предельных оснований исторического процесса, в качестве которых выступают две ипостаси личностного начала – божественная в виде «высшего сознания» и земная в трех ее разновидностях: «всеобщее сознание» человечества, «социальное сознание» народов и «сознание человека». Под «высшим сознанием» понимается Бог как чисто объективное сознание, содержанием которого является идея личности. Бог, хотя и является «движущей силой» истории, не является ее субъектом, следовательно истории не принадлежит; его влияние на мир носит сугубо идейный характер. «Всеобщее сознание» – это выражение идеи совершенства на языке, понятном несовершенным существам и в то же время результат синтеза достижений по ее осуществлению на определенном этапе мировой истории. Так же не являясь субъектом истории, всеобщее сознание выполняет роль опосредующего звена между Богом и людьми, имея свое представительство на земле в лице церкви. Собственно субъектами истории являются только носители человеческого и социального сознания – реальные агенты исторического действия. Под воздействием христианства соотношение личностного и активистского начал в них исторически изменяется в направлении их синтеза: «то и другое естественно сливаются в высшем разуме и неизбежно ведут к одной и той же цели» [16, с. 50]. Такой целью является достижение подлинной свободы исторической личности как необходимого условия созидания социальности христианского типа.
Свободу воли Чаадаев отличает от своеволия, более того, он считает, что первое из них исключает второе. В подлинном смысле свободной человеческая воля становится только в случае полного отказа от своеволия и абсолютного подчинения помыслов и поступков человека требованиям высшей воли: «Все силы ума, все средства познания основываются лишь на покорности: чем более он себя подчиняет, тем он сильнее… Как только мы устраним это верховное правило всякой деятельности, так немедленно впадаем в порочные рассуждения и порочную волю» [16, с. 70]. Однако восприятие высшей воли возможно лишь через усвоение главной христианской идеи – идеи нравственного закона, которая относится к числу наиболее сложных и глубоких идей человеческих. В силу этих своих особенностей идея нравственного закона недоступна массам, которым более свойственна «чувственная жизнь». Она открывается первоначально лишь наиболее глубоким мыслителям, то есть духовной элите общества: «Не в людской толпе рождается истина…во всем своем могуществе и блеске человеческое сознание обнаруживалось только в одиноком уме» [16, с. 148]. И лишь со временем, будучи реализованной в поведении элиты, эта идея становится доступной также и массам, но лишь в виде наглядного примера жизни, который укореняется в традиции и передается по наследству. «Для того, чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений; другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции» [16, с. 94].
Наиболее ярко это способ обретения свободы и его благотворные результаты усматриваются Чаадаевым в ранних христианских общинах, которые он считает реальным историческим аналогом полноты осуществления личностного начала в общественной жизни. Он даже указывает на характерные особенности жизни этих общин как признаки «благодатной социальности»: единство мысли и действия, влечение к единству и отвращение от разделения, дух самопожертвования и ненасильственное подчинение дисциплине.
Имея в виду поэтапный характер нисхождения нравственной идеи, Чаадаев отстаивает приоритет духовной власти по отношению к власти светской: «Начало бывает действительно плодотворно лишь тогда, когда оно вполне независимо от светской власти» [16, c. 304]. И только в том случае, когда духовная элита способна задать истинные ориентиры идейных исканий народа, и напротив, оборачивается тормозом общественного прогресса в случае трансляции в массы уже готовых искаженных идеалов. По мнению раннего Чаадаева идея свободной личности в результате раскола оказывалась всецело достоянием Запада, где под водительством католической церкви «искание истины» становится призванием европейского человека и основой его духовного суверенитета: «Народы Запада, отыскивая истину, нашли благополучие и свободу» [16, с. 251]. В противоположность этому на Востоке, идея свободной личности, лишенная статуса добродетели, постепенно превращается в фикцию.
На основе анализа негативного исторического опыта Византии и России Чаадаев предлагает продуманный вариант спасения нашего отечества. Свои надежды он связывает с возрождением личностного начала в русском человеке. По его мнению, это позволит решить две важнейшие задачи укоренного развития общества: ликвидировать крепостное рабство и актуализировать творческий потенциал народа. Такого рода качественные преобразования («преображение») социального организма невозможны без привнесения в его наследственную программу (культурную традицию) той идейной ориентации, которая отсутствовала в православии и наличествовала в католицизме.
Чаадаев не предлагает России сменить религию, он предлагает ассимилировать западное («социальное», «деятельное», «активное») начало идеи личности с ее восточным («аскетичным», «покорным», «жертвенным») началом посредством воссоединения христианских церквей. Хотя прямых высказываний на этот счет в текстах Чаадаева не обнаружено, «но, исходя из общего смысла его идей, можно думать, что идеальная церковь … представлялась ему как сочетание этих двух необходимых элементов христианской религии: социального и аскетического» [2, с. 150]. Хорошо представляя всемирно-исторический масштаб такого рода деяния, он возлагает эту миссию на Россию и не столько потому, что это «в ее собственных интересах», сколько потому что это «в интересах всего человечества»: «Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику;…ее дело в мире есть политика рода человеческого» [16, с. 240].
Дело в том, что первоначальное романтическое восприятие Запада в тридцатые и сороковые годы претерпело у Чаадаева весьма существенное изменение. Революционные события в Европе той поры настолько явственно обнажили материальную подоплеку западного активизма, что подвергли сомнению его (активизма) духовно-нравственную обусловленность. Видимо, отчасти поэтому Чаадаев не возлагал никаких надежд на инициативу Запада по поводу воссоединения церквей: демократизм западной жизни способствовал утверждению «своеволия толпы», ориентированной либо на «чисто вещественное», либо на «несбыточное». По мнению Чаадаева, идеи совершенства, порожденные толпой, – это «призрачная мечта о совершенстве, …способная удовлетворить только материальные потребности человека и поднимающая его на известную высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны» [16, с. 50].
Была и другая причина миссионерского призвания России, связанная с историческим тупиком европейского общества, реализовавшим социальную составляющую христианской идеи и застывшим «в вечной неподвижности» [16, с. 298]. «Политическое христианство» Запада выработало средства социального «преображения» и прогресса общества, но утратило историческую перспективу и подпало под влияние своеволия «толпы», то есть «тварного» начала и его «злой воли»: «Христианская религия исходила из идеи, но…должна была утвердиться на деле: отсюда неизбежные ее поражения» [16, с. 194]. В противоположность этому Россия сохранила и пронесла через века духовно-нравственную идею христианства, не воплотив тот «задаток» социальности, который в ней изначально содержался. Таким образом, «духовное христианство» России оказалось носителем нереализованного потенциала, в осуществлении которого просматривалась историческая перспектива как для нее самой, так и для человечества в целом. «В настоящее время христианская религия утвердилась фактически, и она явно стремится вновь возвыситься до чистой своей идеи» [16, с. 194]. Притом в условиях кризиса западной цивилизации, получающего все большее распространения и на нашу страну. Именно созревшая угроза «христианоцентристской» направленности исторического процесса была воспринята Чаадаевым как вызов, поиски ответа на который знаменуют начало завершающего этапа мировой истории – этапа «новейшего времени», на котором ведущую роль должна сыграть Россия: «Мы – истинный богом избранный народ новейшего времени» [16, с. 298].
Все великие помыслы рождаются в «пустыне», проживание в которой способствует возвышенной направленности духа. Великое призвание России видится Чаадаеву в том, чтобы посредством воссоединения христианства первоначально в одной стране (России) создать здесь единый религиозный контекст, обеспечивающий сохранность и действенность его идейного потенциала. А в дальнейшем, силой личного примера, увлечь и другие страны на этот путь. Разумеется, без участия светской власти подобная миссия в политически разделенном мире невозможна, а потому перед Чаадаевым встает вопрос о форме правления, наиболее соответствующей достижению поставленной цели. Как это не покажется странным, такой наилучшей формой правления Чаадаев считает монархию, а решающую роль в возрождении личностного начала в русском человеке он отводит монарху. И это после уничтожающей характеристики самодержавной власти как «олицетворенного произвола», который превратил Россию в «огромный мир рабства», подвластный «воле и произволению одного лишь человека».
С точки зрения Чаадаева здесь нет противоречия: монархия может быть и наихудшей и наилучшей формой правления в зависимости от личности монарха. Как уже отмечалось выше, он придерживался аристократических взглядов на природу властных отношений, отсюда и неприятие им демократии в качестве противоестественного режима как по «чувственному» источнику его идейных оснований, так и по насильственному (революционному) способу установления его: «У меня нет демократических замашек, и я никогда не искал благорасположения толпы» [16, с. 250].
Чаадаев признавал только один вид революции – мировоззренческую революцию в умах и сердцах. И такую революцию можно осуществить только «сверху» и только в ненасильственной форме – просветленным монархом, силой своего личного примера, распространяющего свет постигнутой им истины на ближайшее и отдаленное окружение: «Общество заставляют двигаться вперед не те, кто колеблются между истиной и ложью, … а люди принципиальные… Плодотворен лишь фанатизм совершенства, страстное стремление к истинному и прекрасному» [16, с. 182]. Чаадаев был убежден, что его проект вполне реалистичен, и что на протяжении жизни одного поколения достижимо равенство людей в нравственном отношении, исключающее возможность подавления человека человеком, и в то же время создающее условия для осуществления общественного идеала.
Список литературы:
- Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма: Репринтное воспроизведение издания YMCA- PRESS, 1955. – М.: Наука, 1990. – 224 с.
- Гершензон М. Две главы (ХХ и ХХ1) из книги «П.Я. Чаадаев, жизнь и мышление» // Петр Чаадаев. Философические письма к даме / Петр Чаадаев. – М.: Захаров, 2000. – 157 с. С. 142–157.
- Гурвич-Лищнер С.Д. П.Я. Чаадаев в русской культуре двух веков / С.Д. Гурвич-Лищнер. – СПб.: Нестор-История, 2006. – 254 с.
- Дегтярева М.И. «Особый русский путь» глазами «западников»: де Местр и Чаадаев / М.И. Дегтярева // Вопросы философии, – 2003. – № 8, – с. 97–105.
- Дегтярева М.И., Чаадаев и Герцен: эволюция идейных контактов в свете нынешних дискуссий / М.И. Дегтярева // «Отечественная история», – 2005, – № 1, – с. 56–73.
- Жихарев М.И. Докладная записка потомству о П.Я. Чаадаеве / М.И. Жихарев // Русское общество 30-х годов Х1Х в. Люди и идеи. Мемуары современников / Под ред. И.А. Федосова. – М.: МГУ, 1989. – 446 с.
- Зеньковский В.В. История русской философии / В.В. Зеньковский Т. 1, Ч. 1-2. – Л.: ЭГО, 1991. – 219 с.
- Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры / В.К. Кантор. – М.: РОСПЭН, 2001. – 697 с.
- Лосский Н.О. История русской философии / Н.О. Лосский. – М.: Высшая школа., 1991. – 559 с.
- Мазур Н.Н. Из истории формирования русской национальной идеологии (первая треть XIX века) / Н.Н. Мазур // «Цепь непрерывного предания» Сборник памяти А.Г. Тартаковского / Ред. В.А. Мильчина, А.Л. Юрганов. – М.: РГГУ, 2004. – 364 с. С. 196–250.
- Мильчина В.А., Осповат А.Л. О Чаадаеве и его философии истории // Чаадаев П.Я. Сочинения / П.Я. Чаадаев. – М.: Изд-во «Правда», 1989. – 655 с. С. 3–12.
- Мильчина В.А. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы / В.А. Мильчина. – СПб.: Гиперион, 2006. – 526 с.
- Ненашев М.М. Петр Чаадаев: учение о свободе воли и смысле истории / М.М. Ненашев. – СПб.: Знание, 1999. – с. 96.
- Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории /Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская. – М.: Магистр, 1997. – 328 с.
- Пузанов Н.Н. Петр Яковлевич Чаадаев и его миросозерцание / Н.Н. Пузанов. – Киев: Типография И.И. Горбунова, 1906. – 56 с.
- Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – М.: Современник, 1989. – 623 с.
дипломов
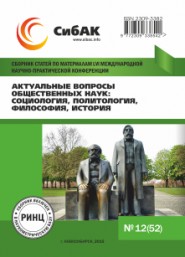

Оставить комментарий