Статья опубликована в рамках: XCIX Международной научно-практической конференции «Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки» (Россия, г. Новосибирск, 08 октября 2025 г.)
Наука: Культурология
Секция: Теория и история культуры
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ЖИВОЙ ОГОНЬ КОЧЕВНИКОВ: СИМВОЛИКА И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ У КАЗАХОВ И ЦЫГАН
THE LIVING FIRE OF THE NOMADS: SYMBOLISM AND CULTURAL CONTEXT OF KAZAKHS AND ROMA
Kristina Teterina
Teacher of Russian language and literature, North Kazakhstan State University named after Manash Kozybaev,
Republic Kazakhstan, Petropavlovsk
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается образ огня как один из ключевых символов в традиционной культуре казахов и цыган – двух кочевых народов, чья идентичность формировалась в условиях постоянного движения и связи с природной стихией. На основе сравнительного анализа народных преданий, лексических особенностей и историко-культурного контекста автор исследует, как мифологический образ огня отражает механизмы коллективной памяти, выживания и духовной устойчивости в условиях социальной маргинализации и культурной трансформации. Особое внимание уделено роли огня в мифопоэтическом мышлении, а также его значению как архетипа, объединяющего прошлое и формирующего культурное будущее.
ABSTRACT
The article examines the image of fire as one of the key symbols in the traditional culture of the Kazakhs and Roma, two nomadic peoples whose identity was formed in conditions of constant movement and connection with the natural elements. Based on a comparative analysis of folk legends, lexical features, and historical and cultural context, the author explores how the mythological image of fire reflects the mechanisms of collective memory, survival, and spiritual resilience in conditions of social marginalization and cultural transformation. Special attention is paid to the role of fire in mythopoetic thinking, and its significance as an archetype that unites the past and shapes the cultural future.
Ключевые слова: огонь, кочевая культура, казахи, цыгане, народные предания, межкультурная символика, национальная идентичность.
Keywords: fire, nomadic culture, Kazakhs, Roma, folk legends, intercultural symbolism, national identity.
Казахи и цыгане – два народа, чьи судьбы были связаны с дорогой: кочевьем, вечным движением по земле и под открытым небом. Их культуры сформировались под влиянием степей, солнца и ветра, вокруг огня.
У казахов огонь занимает особое место в ритуалах и символизирует женскую энергию, заботу и плодородие. Огонь казахского народа имеет созидательную, разрушительную и апотропическую функцию: он очищает, защищает и создает пространство для нового начала [2]. Для цыган же огонь всегда был вечным спутником – будь то костёр, согревающий и объединяющий, или огонь любви, символизирующий непрерывную жизнь и открытость миру. У обоих народов огонь связан с процессом жизни и смерти, его сила в том, что он является частью бинарной оппозиции, где смерть и возрождение идут рука об руку.
Огонь, будь то в юрте казаха или на костре цыган, требует постоянной подпитки, чтобы не погаснуть, и в этом смысле он становится символом вечной жизни, о которой необходимо заботиться, которую необходимо поддерживать и передавать. Этот живой огонь становится центром, вокруг которого формируются как быт, так и глубокие философские и духовные связи.
В традиционной казахской юрте огонь был неотъемлемой частью повседневной жизни, а сам очаг располагался в центре, как и почётное место («төр») для гостя, в том числе незваного. Неуважительное отношение к гостю буквально являлось нарушением некого мирового порядка, закона великого предка: «Қонақты қуа берсең, құт қашады» («Если гнать гостя, құт (благодать) убежит») [5, c. 67]. Гость входил, и с ним входило благословение. Очаг, пища, место в юрте – всё это было священным.
У цыган, несмотря на отличия в образе жизни, можно увидеть схожую внутреннюю архитектуру духа. Главная часть дома – просторная зала – предназначалась для того, чтобы вместить как можно больше людей, особенно в дни праздников. Там собирались все – родные, друзья, соседи. Там пылал костёр, иногда символический, иногда настоящий. И, как говорит пословица: «Романы яг сарэнгэ бикхэрэнгиро свэтинэла» («Цыганский костёр всем бездомным светит») [4]. Пословица показывает, что огонь не принадлежит только дому, он принадлежит всем, кто нуждается в тепле.
Цыгане, как и казахи, сохраняют в своей памяти культ огня. В казахской тенгрианской традиции почитается Небо и Солнце как высшие начала, символы света и жизни. Цыгане – дети древнеиндийской культуры – тоже верили в солнце как в божество, а в огонь как в его земное проявление. Сегодня всё это может показаться лишь отголосками прошлого. Но в условиях современных вызовов – культурной ассимиляции, потери идентичности, социальных стереотипов – именно к ним обращаются этнокультурные объединения. Так, например, цыганское объединение «Русско рома» в Актюбинской области, официально действующее в Казахстане с 2010 года в составе КГУ «Қоғамдық келісім», стремится сохранить язык и традиции цыган.
В современном обществе бытует негативный миф о цыганах, ассоциирующих их с маргинальностью и криминалом, что связано с их кочевым образом жизни. Цыгане воспринимаются либо как романтичные путешественники, либо как бедные и мошеннические люди. Казахов также иногда воспринимают через призму их кочевничества, ассоциируя с устаревшими стереотипами о «дикости» или отсталости, чаще всего в контексте эпохи империй, как чуждых «цивилизованному» обществу. Однако такие представления не являются обоснованными, ведь и казахи, и цыгане имеют богатую культуру и историческую ценность, и их образ жизни не связан напрямую с бедностью или низким социальным статусом.
В этой статье мы обратимся к преданиям о происхождении огня у казахов и цыган, чтобы понять, как древние представления об огне продолжают жить в культуре, и как их интерпретация помогает современному человеку ощущать свою связь с ним. Это то, что собирает людей, хранит память и освещает путь.
Народные предания о происхождении огня, на первый взгляд кажущиеся частью архаического мифологического слоя, при более внимательном прочтении начинают раскрывать скрытую историко-культурную глубину, обнаруживая в себе как древнюю символику, так и актуальные социальные смыслы. Предания, подобные тем, что существуют в казахской и цыганской традициях, являются своеобразными матрицами коллективной памяти, в которых запечатлена судьба народа, его исторические испытания, способы выживания и формы сохранения достоинства.
В казахском предании о происхождении огня речь идёт о людях, которые поняли, что без огня им плохо, после чего начали просить Бога дать им тепло и свет. Бог, как бы не до конца поняв их просьбу, вместо огня дарует солнце и луну. Однако только один человек, дуана по имени Фрук, настаивает на том, что этих светил недостаточно. Людям необходимо не просто освещение, но именно огонь, с помощью которого можно согреться и приготовить пищу. Тогда Бог направляет Фрука в ад, где тот находит и приносит обратно искру, от которой, как говорит предание, и распространился огонь среди людей [3, с. 265]. Этот эпизод, насыщенный архетипическими образами, легко сопоставим с историческим опытом казахского народа, прошедшего через этапы тяжёлой и часто разрушительной трансформации, включая переход от традиционного уклада к индустриальному в условиях, когда шоковые Западные образцы (реальный – капиталистический и идеологический – коммунизм К. Г. Маркса и Ф. Энгельса) имели преобладающий авторитет для многих. Однако, несмотря на внешнюю деструкцию, народ сохранил ту самую «искру», которая не только позволила выжить, но и стала субъектом культурного возрождения в эпоху, когда авторитет Западных образцов упал и стал возможным отказ от них.
Символическое отправление героя в ад – в пространственно и ценностно предельную точку – как необходимое условие возвращения огня, может быть осмыслено как модель национальной трансформации, в которой путь к идентичности проходит через испытание, страдание и сознательное преодоление. Важно, что в роли этого посредника между божественным и человеческим выступает именно дуана – странствующий аскет, отрёкшийся от мирской суеты и материальных благ ради служения Богу. Происходящее от персидского в значении «сумасшедший, безумный», слово «дуана» в казахской традиции закрепилось за теми, кто добровольно вышел за рамки социальной нормы, кто выбрал путь одиночества, нестяжания и духовного поиска. Именно такая фигура – маргинальная, бродившая по миру, но обладающая особым знанием и связью с трансцендентным – оказывается способной услышать подлинную нужду людей и донести её до Бога. Искра, принесённая из преисподней, становится образом не разрушения, а спасения. И это спасение связано не с внешней благодатью, а с внутренним действием, требующим мужества, знания и памяти.
Сама лексическая форма казахского слова «от» (огонь) подчёркивает глубинную связь с землёй, с территорией, с культурной устойчивостью. Звучащее кратко, резко и твёрдо, это слово несёт в себе символику строгости, сосредоточенности, привязанности к корню. Оно не расплескивается по пространству, оно собирается в центре. В этом смысле казахский огонь – это огонь возвращения, очага, возобновлённого самоуважения и территориального укоренения.
Интересно отметить, что слова «от» (огонь) и «тозақ» (ад), несмотря на отсутствие этимологической связи, частично перекликаются фонетически, как будто отражая в языке саму идею: искра, дающая жизнь, исходит из предельного страдания. Этот созвучный эффект усиливает символическую связку между образом огня и пространством преодоления, каковым является ад в казахском предании. Подобное фонетическое эхо может восприниматься не как лингвистический факт, а как отражение архетипического мышления, где внутреннее напряжение между разрушением и возрождением выражается в звуке, в речи, в поэтике языка.
Совершенно иной характер носит цыганское предание, где огонь также появляется в момент потребности, но проходит к людям иным путём. В центре повествования оказывается мальчик Бокка, который по совету мудрой старухи отправляется к богам за «кусочком солнца», чтобы согреть свой народ в зимнее время. На этом пути он встречает Короля крыс, попавшего в крестьянскую ловушку, освобождает его, и крыса по имени Яг становится его спутником. Дойдя до лагеря богов, Бокка обнаруживает, что те действительно владеют огнём, но отказываются делиться им. И лишь благодаря находчивости и скрытой инициативе Яга, который незаметно похищает стебель фенхеля с тлеющей искрой, огонь всё-таки возвращается в цыганский лагерь. Этот огонь становится основой нового ритуала – праздника «Шанти», во время которого вспоминается путь к огню, и разжигается костёр, от которого зажигаются все семейные очаги [1, с. 94-96].
Здесь перед нами предание, в котором не доминирует образ страдания или испытания через ад, но центральным становится образ отказа, вытеснения и отказа в доступе к ресурсам. Боги не карают, но ограничивают. И в условиях этого ограничения путь к желанному теплу проходит через форму действия, которую можно назвать условной «хитростью». Однако в данном случае она не является актом зла или обмана, но, напротив, служит восстановлением справедливости в мире, где сама структура власти отказывает одному народу в праве на участие в общем благе. Не случайно в предании именно Яг, крыса – маргинальный персонаж, представитель презираемого и непризнанного мира – становится тем, кто приносит огонь. Это ещё один культурный сигнал: обесцененное, униженное, забытое может нести в себе ресурс, необходимый для выживания и преображения.
Интересно и лексическое оформление образа огня в этом контексте. Цыганское слово «яг» звучит мягко, певуче, почти по-детски. Оно противопоставляется казахскому «от» не только по звучанию, но и по внутреннему символизму. Если «от» – это огонь, связанный с местом, с возвращением, с суровостью, то «яг» – это огонь, который не требует фиксированной территории. Он существует в движении, в празднике, в свободе. Он не утверждает границ, а создаёт пространство тепла и общности в любой точке, где собирается племя. Таким образом, в предании отражается исторический статус цыган как народа без фиксированной родины, их особая культурная философия, в которой важна не принадлежность к территории, а способность к сохранению внутреннего тепла и общности в условиях постоянной мобильности и внешнего давления.
В обоих преданиях огонь выступает как центральный символ культурного выживания, как знак достоинства и как средство восстановления утраченного. В казахской традиции этот огонь тяжёлый, выстраданный, возвращённый из глубин страдания. В цыганской – лёгкий, переносимый, добытый через союз с маргинальным и мудрым. Казахское «от» фонетически твёрдое и заднерядное: гласный /о/ — округлый и глубокий, согласный /т/ — глухой и твёрдый, что придаёт слову устойчивость и жёсткость, характерные для тюркской фонетики с её сингармонизмом. В противоположность ему, цыганское «яг» звучит мягко и певуче: начальный /j/ (йот) придаёт лёгкость, /a/ — открытый передний гласный, а звонкий /g/ смягчает финаль, что отражает индоевропейскую, более текучую фонетику без гармонии гласных. Эти два образа не противоречат друг другу, а создают полифонию кочевого опыта, в которой огонь может быть как воспоминанием о пройденном страдании, так и актом тихого сопротивления, как испытанием, так и праздником. В обоих случаях он остаётся тем, что объединяет, согревает и даёт начало новому дню. Подобная интерпретация не является лингвистически доказуемой в строгом смысле, она находит своё место в поэтической структуре мифа и коллективной интуиции, свойственной устным традициям.
Такой межкультурный анализ народных преданий, лексических особенностей и историко-культурного контекста углубляет понимание символических структур, характерных для кочевых сообществ, позволяет по-новому взглянуть на актуальные вопросы культурной памяти, травмы, идентичности и механизмов выживания в условиях исторического вытеснения и социальной маргинализации. Казахи и цыгане, несмотря на все различия в географии, языке и политической истории, оказываются связанными вариацией архетипа огня, общей искрой, которую невозможно задуть. Именно в этой искре, будь она принесена из ада или украдена у богов, сосредоточено не только прошлое, но и возможность будущего.
Список литературы:
- Бакленд Р. Цыгане: тайны жизни и традиции. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 240 с.
- Досмурзинов Р.К. Символика огня в традиционных ритуалах казахского народа // Journal of History. – 2023. – № 109 (2). – Режим доступа: https://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/1654/949 (дата обращения: 18.09.2025).
- Ивановский А.А. Происхождение огня. По сказанию киргизов // Этнографическое обозрение. – 1890. – № 4. – С. 265.
- Рахманина О.Н. Развитие диалогической речи через знакомство с культурой цыганского народа // Открытый урок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/608234 (дата обращения: 18.09.2025).
- Толыбеков С.Е. Общественно-экономический строй казахов в XVII–XIX веках. – Алма-Ата, 1959. – 452 с.
дипломов
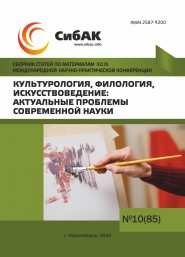

Оставить комментарий