Статья опубликована в рамках: LXXXVI Международной научно-практической конференции «Естественные науки и медицина: теория и практика» (Россия, г. Новосибирск, 10 сентября 2025 г.)
Наука: Медицина
Секция: Психиатрия
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ХРОНИЧЕСКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ СОМАТОФОРМНОМ БОЛЕВОМ РАССТРОЙСТВЕ: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Соматоформные расстройства - это группа психических расстройств невротического уровня, проявляющихся в виде напоминающих соматическое заболевание симптомов. Эти проявления не связаны с приёмом алкоголя или наркотических веществ, а также каким-либо имеющимся соматическим заболеванием [4, с. 1].
Главным признаком соматоформных расстройств является повторяющееся возникновение физических симптомов наряду с постоянным требованием медицинских обследований вопреки подтверждающимся отрицательным результатам и заверениям врачей об отсутствии физической основы для симптоматики. Если физические расстройства и присутствуют, то они не объясняют природу и выраженность симптоматики или дистресса и озабоченности больного. Нередко наблюдается истерический рисунок поведения, направленный на привлечение внимания к своему страданию; пациенты искренне негодуют в связи с тем, что не могут убедить врачей в физической природе заболевания и необходимости дальнейших обследований. Дифференциальная диагностика проводится с соматическими заболеваниями, депрессивными и тревожными расстройствами, ипохондрическим бредом, а также истерической переработкой органической боли [3, с. 245-257].
Известная теория стресса H. Selye (1936) указывает на его возможное участие в возникновении соматоформных расстройств. Выделяется три категории стресса — внутриличностный, межличностный, социальный, а в последнем выделены финансовый, экологический, общественный, рабочий и семейный варианты [5, с. 6].
В отечественной литературе соматоформные расстройства, формирующиеся по механизмам психогений и протекающие с функциональными нарушениями различных органов, рассматривались в ряду «органных неврозов» (Лорие И.Ф., 1954; Аптер И.М., 1965; Мясищев В.Н., 1959, 1960). В.Н. Мясищев наряду с облигатными для неврозов обратимостью психических нарушений и неразрывностью содержательной связи клинических проявлений невроза и конфликтной ситуацией отмечал характерное доминирование эмоционально-аффективных и висцеро-вегетативных расстройств. В числе последних выделяются отдельные случаи, при которых среди функциональных расстройств на первый план выступают нарушения, локализованные в том или ином органе (системе). В.Н. Мясищев предлагал отказаться от понятия «органного невроза», допуская возможность выражения эмоции через реакцию органа и символического выражения болезненных тенденций в разных органах, и полагал более адекватным в таких случаях термин «системный невроз» [1, с. 7-8].
Одна из популярных концепцией соматоформных расстройств -алекситимическая. По определению, впервые введённому P. Sifneos (1969), «алекситимия — это неспособность выражать чувство словами». Главными при алекситимии являются неспособность человека найти слова для описания своих чувств, предпочтение словам действий, утилитарность мышления, бедность фантазий. [5, с. 5]. Затруднения распознавания и вербализации собственных эмоций ведут в итоге к их соматизации.
В структуру соматоформных расстройств согласно МКБ-10 входит устойчивое соматоформное болевое расстройство. В этом случае ведущей жалобой является постоянная, тяжелая и психически угнетающая боль, которая полностью не может быть объяснена соматическим расстройством и проявляется в сочетании с эмоциональным конфликтом или психосоциальными проблемами, которые и могут быть расценены в качестве главной причины [3, с. 256]. Боль является универсальным симптомом как в соматических болезнях и неврологии, так и в психиатрии, различаясь лишь по генезу — органическому и психогенному. Психологические концепции развития боли подразумевают «механизмы вторичной выгоды», когда симптом является способом достижения неосознаваемой цели. Боль в таких случаях выступает средством привлечения внимания, удержания любви, избегания нежелаемого, культивирования у окружающих чувства вины, управления близкими, придания смысла существованию, объяснения проблем. [5, с. 7].
Проявлениями вышеуказанной разновидности соматоформного расстройства могут быть боли в животе, головные боли, боли в суставах и прочие, в том числе относительно редких локализаций. Если имеют место головные боли, то обычно это головные боли напряжения (частые билатеральные, фронтальные, которые описываются как ощущения сдавливания каской) и, как правило, такие пациенты изначально обращаются к неврологам, многократно обследуются, прежде чем попадут на прием к психиатру.
Ниже приводится клинический пример соматоформного болевого расстройства.
Пациентка Л., 69 лет, проходила лечение в дневном стационаре психоневрологического диспансера г. Санкт-Петербурга с 26.05.25 по 30.07.25.
Из анамнеза жизни известно, что пациентка родилась в Ухте, данных о беременности и родах у матери и раннем развитии нет. Родилась первой по счету, есть младший брат (страдает алкоголизмом). Посещала ДДУ, была адаптирована. В школу пошла в срок, училась хорошо. По характеру была активной, нравилось находиться в центре внимания. По окончании 10 класса поступила в строительный техникум, получила специальность «техник-строитель», по которой «работала всю жизнь». Мать после 60 лет заболела болезнью Паркинсона, совершила суицид (повешение). В разводе с 2014 года (уход мужа перенесла тяжело), от брака взрослая дочь. В 60 лет вышла на пенсию. Тогда же, в 2016 году, переехала к дочери в Санкт-Петербург, трудно адаптировалась. Проживает одна в отдельной квартире на первом этаже, под окнами «развела палисадник - людям нравится, они хвалят, восхищаются». Остается в последние годы довольно активной, посещает бассейн, клуб «60+», где охотно поет. Отношения с дочерью и ее семьей, со слов, «хорошие», иногда присматривает за внуками. Не работает. Отрицает употребление психоактивных веществ.
Сопутствующие заболевания: перенесла простудные, детские инфекции. Травмы головы, судороги, потери сознания, ОНМК отрицает. Аппендэктомия в 1983 г. Цереброваскулярная болезнь, дисциркуляторная энцефалопатия. Хроническая головная боль напряжения. Гипертоническая болезнь. Меланома кожи 1 пальца правой стопы, оперативное лечение. Состояние после холецистэктомии. Хронический эрозивный гастрит. Нарушение толерантности к глюкозе. Гипотиреоз. Гипертонический ангиосклероз обоих глаз. Незрелая возрастная катаракта. Возрастная макулярная дегенерация, сухая форма. Принимает постоянно, со слов, лозап, лекармен и прегабалин.
Анамнез психических расстройств: В 2014 году после развода с мужем и диагностирования онкозаболевания появилась тревога, снизилось настроение, испытывала страх, головные боли. В том же году перенесла операцию удаления пальца ноги (подногтевая меланома, которую вначале расценивали как грибок). Тогда впервые обращалась к психиатру, принимала флуоксетин без достаточного эффекта. После переезда в Санкт-Петербург головная боль усилилась. В 2021 году назначался пароксетин 20 мг\сут., на этом фоне состояние улучшилось. Находилась на лечении в клинике неврозов с 09.12.21 по 11.01.22; поступала с целью отмены пароксетина, т.к. «казалось, что сходит с ума». В клинике неврозов назначали карбамазепин 600 мг\сут., гидазепам 50 мг\сут. С лета 2022 года было ощущение «покалывания в теле», тревожность, сниженное настроение, нарушение сна. Находилась на лечении в дневном стационаре ПНД № 8 с 23.12.22 по 03.02.23. Получала амитриптилин 50 мг\сут, карбамазепин 600 мг\сут. Устанавливался диагноз «Рекуррентное депрессивное расстройство. Тревожно-депрессивный синдром». Перестала посещать дневной стационар. С осени 2024 года – очередное ухудшение в состоянии. Постоянно обращалась к различным психиатрам и психотерапевтам в частном порядке, к интернистам, обследовалась. Устанавливались диагнозы: «Устойчивое соматоформное болевое расстройство», «Соматоформное расстройство. Генерализованное тревожное расстройство». Получала разные антидепрессанты (сертралин, пароксетин, амитриптилин, дулоксетин), которые самостоятельно прекращала принимать в связи с «плохой переносимостью». Получала кветиапин без динамики, алимемазин, гидроксизин. На МРТ головного мозга от 17.07.24: «МР-признаки единичных вазогенных очагов в белом веществе головного мозга, неравномерного расширения наружных ликворных пространств». Находилась на лечении в Институте экспериментальной медицины с 13.08.24 по 20.08.24 с диагнозом «ЦВБ. ДЭ 2. Психосоматическое расстройство с паническими атаками и цефалгией». Проходила лечение в Александровской больнице с 30.03.25 по 11.04.25 с диагнозом «ЦВБ». Сама вызвала себе «скорую помощь», т.к. не могла купировать головную боль. Жаловалась на головные боли приступами, давящего, сжимающего характера, не усиливающиеся при физической нагрузке, без фото- и фонофобии, тошноты и рвоты. При выписке рекомендовано: венлафаксин 37,5 * 2 р\д, лозартан 75 мг, эзетимиб 10 мг, левотироксин 37,5, никотинамид, омепразол. Венлафаксин не принимала, полагала, что «от антидепрессантов – слабость, апатия, тревога». Обратилась в ПНД № 8, попросила направить в дневной стационар.
Психическое состояние при поступлении: Пациентка выглядит опрятно. Спокойна, правильно себя ведет. Мимика и жестикуляция маловыразительны. Беседует охотно. На вопросы отвечает достаточно подробно, но сбивчиво и непоследовательно; речь немного замедлена. Ориентирована достаточно. Жалуется на сильные головные боли, уверяет, что «они преследуют с детства», отмечает: «Я пришла к вам как в последнюю инстанцию». Охотно перебирает диагнозы: «Хроническая головная боль, головная боль напряжения». Говорит, что «правую половину головы больно трогать руками». Слабодушна, демонстративна, в начале беседы расплакалась, но быстро успокоилась. Настроение объективно снижено с тревожным оттенком, сама пациентка описать свое эмоциональное состояние затруднятся. Мышление обстоятельное, вязкое. Очень ипохондрична, фиксирована на своем состоянии. Интеллектуально-мнестически нерезко снижена. Обманы восприятия отрицает, поведением не обнаруживает. Очерченного бреда активно и в расспросе не высказывает. Агрессивных тенденций выявить не удается. Суицидные мысли и намерения категорически отрицает. Формально критична к состоянию, настроена на лечение в психиатрическом дневном стационаре, но подчеркивает, что «с антидепрессантами не получается, от них плохо».
За время лечения длительно состояние больной оставалось нестабильным, определяясь умеренно выраженной депрессивно-ипохондрической симптоматикой. Ежедневно жаловалась на сильные головные боли, испытываемые, со слов, «с детства», была фиксирована на своих переживаниях, называла их «невыносимыми». На вопрос о самочувствии однообразно реагировала горькой усмешкой и словами: «Ничего хорошего». Спустя несколько дней сообщила, что принимает прегабалин. В выходные дни дважды вызывала себе «скорую помощь», пациентку доставляли в многопрофильный стационар, но оба раза в госпитализациях было отказано (устанавливался диагноз «ЦВБ. Энцефалопатия смешанная. Соматизированное расстройство»). Параллельно с лечением в дневном стационаре продолжала обследоваться у неврологов частно, вела довольно активный образ жизни, посещала клуб «60+» и бассейн. Периодически затрагивала тему смерти своей матери, говорила о том, что чувствует себя виноватой, «не могла спасти», не может сказать ей о своих чувствах, избавиться от своих переживаний. О дочери и внуках не упоминала. Была демонстративна, манипулятивна, пыталась «диктовать» врачу условия лечения (то назначить, то отменить лекарства, то снова их назначить, то изменить дозы, то выдать то, что рекомендовал невролог и т.п.), часто говорила о «затупленности от таблеток», говорила, что «теперь еле ходит», тогда как объективно походка не менялась. Однажды привела на прием дочь, чтобы врач объяснил той, «что происходит с матерью» (дочь на приеме выглядела отстраненной и безучастной, не задала ни единого вопроса и не выказывала никакой заинтересованности). Сомато-неврологическое состояние оставалось стабильным.
Психолог (02.06.25): В результате ЭПО выявляются легкие изменения когнитивных функций по органическому типу в виде нарушения нейродинамики (замедление темпа психомоторики, истощаемость и флуктуация внимания, легкая инертность мышления), легкого парциального снижения мнестической функции. В структуре личности на первый план выступают эмоциональная лабильность, тревожная мнительность, высокая вероятность соматического отреагирования тревоги. Текущий эмоциональный фон характеризуется умеренно выраженными депрессивными переживаниями с преобладанием соматических проявлений, уровень актуальной тревоги выше нормы, в структуре тревоги преобладает астенический компонент и напряжение, связанное с неопределенностью текущей ситуации.
Постепенно на фоне лекарственной терапии, индивидуальной и групповой психотерапии и психообразовательной работы состояние пациентки стало улучшаться. Настроение выровнялось, о головных болях упоминала все реже и вскоре вовсе перестала на них жаловаться. Сообщала о хорошем самочувствии, хвалилась фотографиями своего «палисадника» у дома, гордо демонстрировала зубные импланты («смотрите, я вам улыбаюсь, я теперь красивая»). Стала интересоваться выпиской, намереваясь заниматься решением вопроса о плановой операции на позвоночнике, причем никаких жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата она не высказывала и какую-либо имеющуюся проблему не описывала.
Применение лекарственных препаратов: т. Этилметилгидроксипиридина сукцинат до 0,5 г\сут; т. Тиоридазин до 0,03 г\сут (отмечала "затупленность"); т. Фенибут до 0,75 г\сут; т. Хлорпротиксен до 0,015 г\сут (быстро отменен, т.к. жаловалась на "затупленность"); т. Миртазапин до 0,03 г\сут (самостоятельно меняла дозы, "крошила таблетку"); т. Тофизопам до 0,15 г\сут; т. Агомелатин до 0,025 г\сут ("отсутствие эффекта"); к. Дулоксетин до 0,06 г\сут (вначале настояла на назначении, затем на отмене препарата).
Психическое состояние при выписке: Внешне спокойна, ухожена. Ведет себя правильно. Охотно вступает в беседу, речь немного замедленная, обстоятельная, вязкая. Самостоятельно не упоминает головные боли, не говорит про «затупленность от таблеток», отмечает, что «стало лучше», «устала ездить в дневной стационар», «уже можно не приезжать». Значительно менее ипохондрична, более сдержана. Своим состоянием не тяготится. Настроение объективно без заметных признаков снижения и тревожности. Эмоционально лабильна, демонстративна. Говорит о предстоящей плановой операции на позвоночнике. Признаков психотических расстройств и опасных тенденций не выявляется. Аппетит и сон, слов, не нарушены. Критика к болезни довольно формальная. Уверяет, что настроена на прием миртазапина, т.к. «от всех других антидепрессантов плохо», на лечение у неврологов. Сомато-неврологически компенсирована.
Установлен диагноз: «Соматоформное расстройство (устойчивое болевое соматоформное расстройство). Депрессивно-ипохонрический синдром. F 45.4». Выписана с рекомендацией постоянного приема миртазапина 0,03 г\сут., курсового приема этилметилгидроксипиридина сукцината и индивидуальной психотерапии.
Описанный клинический случай иллюстрирует пример хронической головной боли напряжения в рамках устойчивого соматоформного болевого расстройства у пациентки с истерическими чертами личности и явлениями алекситимии. Несмотря на заверения пациентки в том, что головные боли «преследовали с детства», следует предположить, что болевой синдром развился около 10 лет назад на фоне следующих одна за другой стрессовых ситуаций: развод с мужем, онкологическое заболевание, выход на пенсию и переезд в другой регион со сменой привычного жизненного уклада. Прослеживается усиление тревожно-депрессивных переживаний, головной боли и ипохондрической фиксации на фоне каждого стрессового фактора. Примечательно, что установление психиатрических диагнозов и подбор психотропной терапии не прекращали стеничного поиска пациенткой органической патологии и многочисленных обследований. Вероятно, сказывался недостаточный эффект проводимой терапии, что могло быть обусловлено несоблюдением пациенткой врачебных рекомендаций и приемом лекарств по своему усмотрению, что она в очередной раз продемонстрировала в период лечения в дневном стационаре. При этом поиск пациенткой причин болезни был направлен и на психотравмирующие ситуации (в частности, смерть матери), что ранее могло быть услышано ею от врача. Ухудшение самочувствия в выходные дни с самостоятельным вызовом бригады «скорой помощи», а также поведение и эмоциональная холодность дочери на приеме у врача косвенно могут указывать на то, что ухудшения состояния и усиление головных болей у пациентки легко провоцируются недостатком внимания со стороны окружающих (как медработников, так и дочери), и поведение пациентки в данном случае - «крик о помощи» чтобы привлечь недостающее на ее взгляд внимание окружающих к своей персоне. Но такой рисунок поведения не следует расценивать как симуляцию. Следует отметить несоответствие выраженности жалоб пациентки объективному психическому статусу, ее поведению и довольно активному образу жизни. Выявляемые признаки психоорганического синдрома и подтверждаемые с помощью методов нейровизуализации изменения головного мозга сосудистого генеза являются невыраженными и соответствуют возрасту пациентки, что исключает обусловленность головных болей органической патологией и наряду с анамнестическими данными и особенностями личности подтверждает психогенный характер болевого синдрома. Сложно однозначно сказать, на фоне чего в данной ситуации наступило улучшение самочувствия - медикаментозной терапии, психотерапии, изменения отношений с эмоционально значимым человеком или же всех факторов в совокупности.
Как показывают исследования, в лечении соматоформных расстройств наиболее убедительно продемонстрирован эффект антидепрессантов и когнитивно-поведенческой терапии. Существуют данные о положительном эффекте антипсихотиков, однако, эффективность и безопасность данного класса препаратов нуждается в дальнейшем уточнении. В группе антиконвульсантов показана эффективность прегабалина и габапентина в терапии соматоформных болевых синдромов (но не при других клинических вариантах данного расстройства) [2, с. 5]. Но в любом случае для успешного лечения соматоформного расстройства показаны как психотерапия, так и фармакотерапия.
Список литературы:
- Иванов С.В. Соматоформные расстройства (органные неврозы): эпидемиология, коморбидные психосоматические соотношения, терапия : дис. ... доктора мед. наук. - М., 2002. - С. 7-8.
- Прибытков А.А., Еричев А.Н., Коцюбинский А.П., Юркова И.О. Вопросы терапии соматоформных расстройств: медикаментозные и психотерапевтические подходы // Социальная и клиническая психиатрия. - 2014. - Т. 24, № 4. - С. 77.
- Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99) // Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в Российской Федерации. М.: 1998. - 512 с.
- Соматоформные расстройства // Материал из Википедии. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Соматоформные_расстройства (дата обращения 15.08.25).
- Шайдукова Л.К. Механизмы конверсионных, соматоформных и психосоматических расстройств во взрослом и детско-подростковом возрасте // Казанский медицинский журнал. URL: https://shaidukova.ru/wp-content/uploads/2024/11/kazanmedj-2024_shaydukova_avtoru.pdf (дата обращения 15.08.25).
дипломов
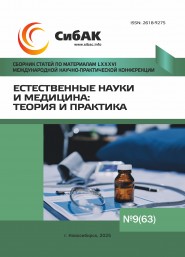

Оставить комментарий