Статья опубликована в рамках: XCVIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 17 сентября 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Уголовное право
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК
Причина всех конфликтов не бедность, а несправедливость.
(Конфуций)
В 1990-е годы, ставшие для Казахстана периодом масштабных социальных и политических потрясений, страна столкнулась с колоссальными потерями в системе органов следствия. В этот сложный исторический момент практически полностью был утрачен профессиональный кадровый состав, накопленный за советские десятилетия. Специалисты, обладавшие опытом, знаниями и навыками, либо ушли из профессии, либо были вынуждены сменить сферу деятельности в силу тяжёлых экономических условий. Как следствие, на протяжении последующих лет восстановить тот уровень профессионализма так и не удалось.
Нынешнее поколение сотрудников, приходящих работать в следственные подразделения, зачастую оказывается неподготовленным к тем задачам, которые ставит перед ними уголовный процесс. Молодые кадры нередко не обладают достаточной теоретической базой и практическими знаниями, слабо владеют методиками расследования, а психологическая их устойчивость, столь важная в этой сфере, оставляет желать лучшего. Всё это негативно отражается на результатах следственной деятельности и снижает уровень доверия общества к работе правоохранительных органов.
К проблемам кадрового характера добавляется ещё одна серьёзная трудность — отсутствие в правоохранительной системе научно организованного труда. Если бы деятельность следователей и дознавателей строилась на чётких организационных принципах, учитывающих как нагрузку, так и необходимость рационального распределения времени, эффективность работы была бы выше. Однако в реальности этого не наблюдается.
Следователи и дознаватели ежедневно сталкиваются с огромным валом уголовных дел, работают в условиях ненормированного рабочего дня, зачастую задерживаясь на службе допоздна. Такая ситуация приводит не только к лишению их личного времени, но и к невозможности вести объективное и всестороннее расследование. Из-за перегруженности они вынуждены ограничиваться формальными мерами, уделяя меньше внимания деталям и обстоятельствам, которые могли бы изменить общую картину дела.
Именно поэтому в большинстве случаев расследование ведётся с заранее выраженным обвинительным уклоном. О беспристрастном установлении истины на стадии предварительного следствия указывать почти не приходится. Система, потерявшая опытных специалистов и не имеющая налаженной научной организации труда, вынуждена существовать в упрощённой форме. Восстановить утраченное намного сложнее, чем пойти по пути примитивизации процедур. Именно этим и объясняется тенденция последних лет к введению ускоренных форм расследования уголовных дел, а также к институционализации сделки о признании вины. Эти нововведения представляют собой попытку адаптировать систему к реальной кадровой и организационной ситуации, однако фактически они означают отказ от более глубокого и детального следствия, которое должно было бы быть ориентировано на поиск объективной истины.
При новой схеме досудебного производства: полицейский-прокурор-суд - инквизиционные элементы значительно усиливаются [1]. В рамках новой модели наблюдается стремление совместить две различные правовые традиции: на инквизиционную, то есть континентальную основу досудебного производства накладываются процессуальные элементы, характерные для состязательной (англо-саксонской) системы уголовного процесса. Особенно заметно это проявляется в вопросах, связанных с поиском и установлением истины по уголовным делам. Нужно подчеркнуть, что в условиях состязательной модели суд постепенно утрачивает значительную часть процессуальных механизмов, позволяющих самостоятельно устанавливать истину в ходе судебного разбирательства. Объясняется это тем, что в такой системе суд ограничивается оценкой исключительно тех доказательств, которые ему представляют стороны процесса, без возможности активно восполнять недостающие сведения.
Хотя подобный подход внешне выглядит логичным и обоснованным, на практике необходимо признать, что он оставляет суду крайне ограниченные возможности для вынесения по-настоящему справедливого решения, соответствующего ожиданиям общественного сознания. В подобных условиях итоговый вердикт суда в значительной мере определяется уже готовым и представленным на его рассмотрение пакетом материалов, подготовленных органами досудебного производства. При этом, в соответствии с положениями нового УПК РК, центральное место в системе досудебного расследования занимают органы прокуратуры. Однако следует учитывать, что прокурор по своей природе является представителем обвинения, то есть государственным обвинителем. Следовательно, любое предварительное решение, сформированное на стадии досудебного производства, практически неизбежно будет носить обвинительный характер и демонстрировать предвзятый уклон.
При этом возникает ещё один важный вопрос: каким образом прокуратура, являясь органом, наделённым полномочиями осуществлять высший надзор за точным и единообразным исполнением законодательства, сможет сохранять объективность в тех делах, направление которых в суд инициировала сама. Очевидно, что подобное совмещение функций снижает доверие к беспристрастности надзорного органа. Рассматривая новую модель досудебного производства, нельзя оставить без внимания и некоторые её новшества. В частности, в новом УПК РК отсутствует положение, закрепляющее поводы и основания для возбуждения уголовных дел. Между тем подобная норма существовала в уголовно-процессуальном законодательстве постсоветского периода и продолжает действовать, например, в УПК Российской Федерации (ст. 140).
- Согласно п.1 ч.1 ст. 612 УПК РК расследование уголовных дел в рамках заключенного процессуального соглашения может производиться в форме сделки о признании вины - по преступлениям небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям - в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением;
Представляется, что в условиях, когда предварительное следствие изначально строится с выраженным обвинительным уклоном, институт сделки о признании вины может привести к крайне негативным последствиям. Фактически это создаёт ситуацию, при которой правоохранительные органы получают почти безграничную власть над лицами, оказавшимися в сфере их процессуальной компетенции. Подобная концентрация полномочий во многом напоминает практику сталинских времён. Разница лишь в том, что тогда, как свидетельствует история, признательные показания зачастую добывались посредством физических пыток и насилия, тогда как в настоящее время в этом даже нет необходимости: сама правовая конструкция подталкивает обвиняемого к признанию.
Человек, оказавшийся в условиях ускоренного производства, как правило, соглашается признать свою вину, зачастую не столько из-за действительной причастности к преступлению, сколько из желания смягчить последствия. Признавшись, он получает шанс ограничиться половиной санкции, предусмотренной статьёй, тогда как отказ от признания вины чреват назначением наказания в полном объёме. Таким образом, признание становится средством минимизации риска, а не отражением реальной картины событий.
В подобной ситуации надеяться на объективность судебного разбирательства не приходится, ведь суду поступает дело, которое ещё на стадии досудебного расследования было подготовлено с очевидным обвинительным перекосом. Что касается участия адвоката, то оно в такой модели превращается в формальность. Защитник фактически лишён возможности проводить альтернативное расследование и собирать собственные доказательства, как это практикуется в странах, где данный институт зародился и функционирует. В итоге роль адвоката сводится к позиции стороннего наблюдателя, что серьёзно снижает ценность его участия и подрывает принцип состязательности.
Кроме того, расширение состязательных начал уголовного судопроизводства (ст. 23 УПК РК) при всей его логической обоснованности в кодексе не находит последовательной реализации.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что любые интерпретации данного положения должны быть подкреплены целостным комплексом институциональных изменений в сфере досудебного производства. Эти изменения должны опираться на единый концептуальный подход и, следовательно, реализовываться исключительно в рамках одной определённой модели — либо англо-саксонской, либо континентальной. Попытки же объединить в одном УПК элементы сразу двух различных систем вряд ли принесут положительный результат. В оптимальном случае подобная интеграция приведёт лишь к несоответствиям и коллизиям, что вынудит законодателя неоднократно вносить многочисленные поправки и уточнения в кодекс. В худшем же варианте это обернётся ростом правового нигилизма, распространением коррупции и игнорированием прав граждан.
Что касается непосредственно уголовного законодательства, то здесь также возникают серьёзные вопросы, в частности — чем именно обусловлена необходимость искусственного разделения уголовно наказуемых деяний на категории «уголовные проступки» и «преступления».
В соответствии с положениями нового Уголовного кодекса Республики Казахстан в отдельную категорию «уголовных проступков» были отнесены свыше пятидесяти различных составов правонарушений. К ним, в частности, относятся такие деяния, как мелкое хищение, угрозы, оскорбления, а также определённые нарушения в сфере дорожного движения и экологии. За их совершение предусмотрены меры ответственности, которые не связаны с лишением свободы и изоляцией от общества. При этом, несмотря на то, что подобные действия получили статус уголовных проступков, фактически они не влекут за собой серьёзных юридических последствий: лицо, привлечённое к ответственности по этим основаниям, не будет считаться имеющим судимость. Согласно ч.2 ст.79 УК РК лицо, осужденное за совершение уголовного проступка, признается не имеющим судимости.
Возникает вопрос, о том, если эти деяния не порождают судимость, то какой смысл их включать в уголовный кодекс.
Действительно, в странах англосаксонской правовой традиции, таких как Великобритания и Соединённые Штаты Америки, подобное деление имеет место. Однако там оно оправдано как с исторической, так и с логической точки зрения. Причина заключается в том, что в данных государствах отсутствует самостоятельный институт административной ответственности. Функцию регулирования менее значительных правонарушений выполняют нормы уголовного права, в связи с чем, ещё со времён Средневековья правонарушения разделяются на фелони и мисдиминоры.
Фелони представляют собой более тяжкие преступления, наказание за которые начинается от одного года лишения свободы и выше. В большинстве американских штатов они подразделяются на четыре категории (А, B, C, D). Мисдиминоры, напротив, являются менее серьёзными нарушениями и классифицируются на два-три класса, а в некоторых юрисдикциях выделяются и особо мелкие виды мисдиминоров. Санкции за них закреплены в общей части уголовного законодательства. Такое разграничение имеет практическое значение, в том числе влияет на определение подсудности судов в США.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что аналогичное деление отсутствует в ряде других стран, также относящихся к англосаксонской правовой системе, например, в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Индии и некоторых других государствах. Именно поэтому заимствование подобной классификации для уголовного законодательства Казахстана представляется не вполне оправданным и вызывает серьёзные сомнения в её целесообразности.
На взгляд авторов, с правовой точки зрения такое нововведение может создать серьёзные сложности при разграничении административных правонарушений и уголовных проступков, что чревато возможной подменой одних категорий другими.
Кроме того, и с точки зрения семантики словосочетания «уголовный проступок» и слова «преступление» тоже много вопросов. Как справедливо отмечает А.Х. Миндагулов, нет совершенно никакого различия в понятиях «преступление», «уголовное правонарушение» и «уголовный проступок». Их следует рассматривать как синонимы. Под словом «уголовный» (уголовное дело, уголовный суд, уголовный закон, уголовный кодекс) подразумевается именно преступление и ничто иное. Не случайно в справочной юридической литературе (словарях, энциклопедиях) нет понятий «уголовное правонарушение» и «уголовный проступок» [2].
Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что разработчики нового Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РК в значительной степени ориентировались на рецессию, то есть на заимствование чужих правовых институтов. Однако при этом они не учли, что простое копирование зарубежных моделей без учёта ментальных, культурных и историко-правовых особенностей казахстанского общества в первую очередь отражает слабость национальной государственности. Игнорирование этих факторов неизбежно ведёт к тому, что внедрённые извне нормы воспринимаются обществом с недоверием и оказываются малоэффективными на практике.
Считаем, что совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства должно строиться, прежде всего, с учётом многообразия казахстанской действительности и накопленного исторического опыта. В этом процессе важно не ограничиваться лишь заимствованием успешных институтов зарубежного права, но и развивать собственные оригинальные правовые решения и новеллы. Например, в новом Уголовном кодексе РК одним из распространённых видов наказания выступает штраф. При этом размеры штрафных санкций были увеличены в среднем на 57 %, однако механизмы их реализации остались практически без изменений, что снижает эффективность данной меры.
Представляется, что подобных примеров в казахстанской истории применения права можно найти много.
Список литературы:
- Смирнов А.В. Состязательные и инквизиционные элементы в современном уголовном процессе постсоветских государств Среднеазиатского региона (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан). // [Интернет ресурс] URL: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=3403 (Дата обращения 01.09.2025);
- Миндагулов А.Х. Об уголовном правонарушении и административной преюдиции //[Интернет ресурс] URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31354146 (Дата обращения 01.09.2025);
- Уголовный кодекс Республики Казахстан //[Интернет ресурс] URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (Дата обращения 01.09.2025);
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан //[Интернет ресурс] URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (Дата обращения 01.09.2025);
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации //[Интернет ресурс] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (Дата обращения 01.09.2025);
дипломов
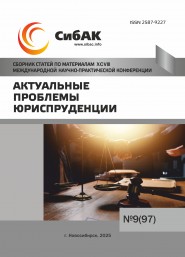

Оставить комментарий