Статья опубликована в рамках: XCVII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 20 августа 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Гражданское, жилищное и семейное право
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОБЛЕМА ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE PROBLEM OF LEGAL PERSONALITY IN CIVIL LAW
Sukhrob Boboniyozov
PhD Candidate (2nd year), Department of Civil Law, Tajik National University,
Republic of Tajikistan, Dushanbe
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется правовая природа искусственного интеллекта (ИИ) в контексте гражданского права. Анализируются традиционные подходы к субъектности, рассматриваются концепции «электронного лица», проблема юридической ответственности, а также дилемма соотношения категорий «субъект – объект» применительно к ИИ. Сделан вывод о том, что антропоцентрическая модель права не приспособлена для включения автономных цифровых систем, что требует разработки новой концепции правосубъектности, основанной на гуманистических и этических принципах.
ABSTRACT
The article examines the legal nature of artificial intelligence (AI) in the context of civil law. It analyzes traditional approaches to legal subjectivity, explores the concepts of the “electronic person,” the problem of legal liability, and the dilemma of the “subject–object” relationship as applied to AI. The study concludes that the anthropocentric model of law is not suited to encompass autonomous digital systems, which necessitates the development of a new concept of legal personality based on humanistic and ethical principles.
Ключевые слова: искусственный интеллект, правосубъектность, субъект права, объект права, электронное лицо, юридическая ответственность.
Keywords: artificial intelligence, legal personality, subject of law, object of law, electronic person, legal liability.
Современный этап технологического развития демонстрирует переход искусственного интеллекта (ИИ) из области экспериментальных разработок в сферу массового применения. ИИ перестал быть исключительно инструментом вычислительной обработки: современные системы способны имитировать когнитивные функции, анализировать большие массивы данных, принимать решения и даже создавать результаты, обладающие признаками творческой деятельности. Подобные качества обусловливают не только новые возможности, но и порождают необходимость их осмысления в правовом измерении. Возникает вопрос: каким образом интегрировать ИИ в правовую систему и какие механизмы регулирования способны обеспечить баланс между инновационным развитием и сохранением устойчивости правопорядка.
Традиционная правовая доктрина основывается на антропоцентрической модели, в рамках которой субъектом права выступает исключительно человек и производные формы его коллективной организации - юридическое лицо и государство. Однако феномен искусственного интеллекта, демонстрирующий отдельные признаки автономности, ставит под сомнение достаточность этих категорий для регулирования возникающих отношений [13, с. 51].
Право традиционно ориентировано на человека как носителя сознания, воли и эмоционально-ценностной сферы. Эти характеристики обеспечивают возможность воздействия правовых норм и восприятия юридической ответственности.
Ключевыми элементами правосубъектности являются правоспособность и дееспособность, предполагающие способность к осознанному волеизъявлению. Данные элементы основаны не только на когнитивных возможностях, но и на эмоционально-психологической составляющей, позволяющей человеку соотносить последствия поведения с моральными и правовыми категориями [1, с. 105].
Искусственный интеллект, несмотря на сложность алгоритмов и способность имитировать когнитивные процессы, лишён субъективного опыта и «эмоционального интеллекта». Это обстоятельство делает невозможным его признание полноценным носителем правосубъектности в рамках существующей доктрины [8, с. 47].
В юридической литературе выдвигается идея сближения правового статуса искусственного интеллекта с правовой природой юридического лица. Ряд исследователей предлагает рассматривать ИИ как самостоятельное «электронное лицо», наделённое правами и обязанностями, способное участвовать в гражданском обороте от собственного имени и нести ответственность за свои действия [10, с. 32; 11, с. 98].
Однако данная конструкция вызывает возражения. Отсутствие у ИИ сознания и моральной ответственности исключает возможность применения к нему традиционных механизмов наказания. Признание его самостоятельным субъектом может привести к уходу создателей от ответственности. Кроме того, подобная модель противоречит устоявшимся принципам правопорядка. Тем не менее концепция «электронного лица» остаётся ценным промежуточным подходом, позволяющим очертить границы правосубъектности ИИ.
Ответственность является одним из наиболее спорных аспектов дискуссии о правосубъектности ИИ. В классическом понимании она предполагает способность субъекта осознавать последствия своих действий и воспринимать наказание как превентивный фактор. Искусственный интеллект, лишённый эмоционально-психологической сферы, не может быть адресатом подобных мер [5, с. 106].
В литературе предлагаются различные решения. Среди них — регистрация ИИ в специальном реестре с наделением имущественной ответственностью; установление ответственности через разработчиков и владельцев (по аналогии с учредителями юридических лиц); а также создание особого режима ответственности, учитывающего специфику автономного функционирования [2, с. 165]. Однако ни одна из этих моделей не устраняет полностью проблему, поскольку отсутствие у ИИ воли и сознания делает невозможным его включение в традиционную систему юридической ответственности.
Современное право преимущественно квалифицирует искусственный интеллект как объект. Однако его способность к автономным действиям и принятию решений выводит ИИ за пределы классической дихотомии «субъект – объект», формируя промежуточное положение. ИИ остаётся объектом, но демонстрирует отдельные признаки субъектности.
В мировой практике известны казуистические случаи признания за ИИ элементов субъектности. Например, в 2017 году робот-гуманоид София получил гражданство Саудовской Аравии, а в деле DABUS австралийский суд признал за ИИ возможность быть патентообладателем [9, с. 28; 4, с. 55]. Однако эти примеры не носят системного характера и не закреплены в национальных правопорядках.
Попытки интеграции ИИ в действующую систему права без пересмотра её фундаментальных категорий ведут к состоянию юридической неопределённости. Антропоцентрическая модель субъектности не способна включить автономные цифровые системы. В этой связи необходима новая концепция правосубъектности, которая позволила бы единообразно квалифицировать все формы участников правоотношений: человека, юридические образования и искусственный интеллект [3, с. 78; 12, с. 109].
Основополагающими принципами такой концепции должны стать приоритет прав и свобод человека, гуманистический и этический характер регулирования, сохранение ответственности за деятельностью ИИ за его создателями и операторами, а также предотвращение рисков утраты контроля над технологиями. Только при соблюдении этих условий возможно формирование целостного механизма правового регулирования, способного адекватно реагировать на вызовы цифровой эпохи.
Заключение
Искусственный интеллект представляет собой феномен, находящийся на границе между субъектом и объектом права. Его способность к автономным действиям и принятию решений делает невозможным его простую квалификацию как объекта, но в то же время отсутствие сознания и эмоционального интеллекта исключает возможность признания его полноценным субъектом.
Современная правовая доктрина сталкивается с необходимостью разработки новой концепции правосубъектности, способной учитывать специфику цифровых технологий и при этом сохранять гуманистическую направленность права. Такая концепция должна сочетать инновационные правовые решения с обеспечением приоритета личности, устойчивости правопорядка и общественной безопасности.
Список литературы:
- Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Юридическая литература, 1966. – 360 с.
- Арклюпов А.В., Наумов В.Б. Правосубъектность искусственного интеллекта: к постановке проблемы // Право и современные технологии. – 2017. – № 2. – С. 160–172.
- Афанасьева Е.Н. Правосубъектность в современном праве: проблемы и перспективы // Журнал российского права. – 2022. – № 6. – С. 75–84.
- Вавилин Е.В. Искусственный интеллект и гражданское право: вопросы субъектности // Российская юстиция. – 2021. – № 3. – С. 53–59.
- Габов А.В. Правовые проблемы использования искусственного интеллекта // Государство и право. – 2018. – № 7. – С. 100–108.
- Зырянов С.Е. Ответственность в условиях цифровизации: проблемы и решения // Вестник гражданского права. – 2023. – № 1. – С. 32–40.
- Ковлер А.И. Искусственный интеллект и право: границы возможного // Право и политика. – 2022. – № 5. – С. 23–28.
- Кущенко А.П. Правовое регулирование в цифровую эпоху // Журнал права и управления. – 2024. – № 2. – С. 45–52.
- Менджерова Е.А. Гражданство робота: правовые парадоксы современности // Государство и право. – 2023. – № 4. – С. 25–31.
- Новоселова Л.А., Габов А.В. Искусственный интеллект и право: к вопросу о правосубъектности // Хозяйство и право. – 2019. – № 5. – С. 30–38.
- Подшивалова Л.В., Титов А.В., Громова Н.С. Искусственный интеллект как субъект гражданского права: дискуссионные подходы // Вестник гражданского права. – 2022. – № 2. – С. 95–104.
- Табаков Д.А. Новые формы субъектности в праве // Правоведение. – 2023. – № 3. – С. 105–112.
- Ястребов О.А. Искусственный интеллект: вызовы для права // Журнал российского права. – 2018. – № 9. – С. 50–57.
дипломов
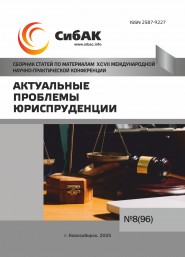

Оставить комментарий