Статья опубликована в рамках: XCV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 18 июня 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Правоохранительные органы
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ПАРАДОКС ДВОЙНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ПУБЛИЧНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСА НОТАРИАТА И КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ ФЗ «О НОТАРИАТЕ» (2025) КАК УГРОЗА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
THE PARADOX OF DUAL LOYALTY: INSTITUTIONAL CONFLICT BETWEEN THE PUBLIC-LEGAL STATUS OF THE NOTARIAT AND QUASI-STATE REGULATION IN THE DRAFT FEDERAL LAW «ON THE NOTARIAT» (2025) AS A THREAT TO ENFORCEMENT INDEPENDENCE
Taisia Bogdanova
1st-year student at the North-West Institute of Management of RANEPA Specialty: Jurisprudence
Russia, St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуется институциональное противоречие, заложенное в проекте федерального закона «О нотариате» (2025), между провозглашённым публично-правовым статусом нотариата и механизмами квазигосударственного регулирования, сохраняющимися за исполнительной властью. Особое внимание уделено рискам утраты реальной независимости нотариусов в условиях жёсткой административной вертикали, а также правовым последствиям так называемого «парадокса двойной лояльности». Нотариат рассматривается как элемент опосредованной правоохранительной системы с анализом угрозы правоприменительной беспристрастности при отсутствии институциональной автономии.
ABSTRACT
This article explores the institutional contradiction embedded in the 2025 Draft Federal Law «On the Notariat» between the proclaimed public-legal status of the notariat and the mechanisms of quasi-state regulation retained by the executive authorities. Special attention is given to the risks of losing the actual independence of notaries within a rigid administrative hierarchy, as well as to the legal consequences of the so-called «paradox of dual loyalty». The notariat is viewed as a component of an indirectly structured law enforcement system, with an analysis of the threat to enforcement impartiality in the absence of institutional autonomy.
Ключевые слова: нотариат, правоохранительные органы, независимость нотариуса, публично-правовой статус, квазигосударственное регулирование, правоприменительная практика, институциональный конфликт, нотариальная палата.
Keywords: notariat, lawenforcement, notaryindependence, public-legalstatus, quasi-stateregulation, lawenforcementpractice, institutionalconflict, notarialchamber.
Публично-правовой статус нотариата в России закреплён положениями Основ законодательства о нотариате, закрепляющими фактическое осуществление нотариальных действий «от имени Российской Федерации» [11]. Конституционный Суд РФ в 1998 г. отметил, что исполнение нотариусом функций от имени государства «предопределяет публично-правовой статус нотариусов и публичный характер их деятельности» [12]. Современный нотариат, с одной стороны, выполняет государственные (охранные, правоохранительные) функции – удостоверяет бесспорные права и факты, разъясняет сторонам правовые последствия действий, предупреждает споры и обеспечивает правовую безопасность сделок [2, с. 213]. С другой стороны, он традиционно имеет латинский тип организации: нотариусы – частнопрактикующие профессионалы, несущие персональную ответственность и заинтересованность в итогах своей деятельности [2, с. 213]. Такое сочетание интересов граждан, государства и самих нотариусов авторы называют «дуализмом» института нотариата.
Однако законодательная конструкция латинского нотариата всегда была неоднозначна: нотариусы образуют самостоятельно управляемую корпорацию публичного права – Федеральную нотариальную палату (ФНП) с обязательным членством территориальных нотариальных палат, – но при этом их деятельность регулируется государством. Например, ФНП официально является «юридическим лицом, организующим свою деятельность на принципах самоуправления» [11] и имеет право принимать обязательные для нотариусов нормативы в рамках своих уставных задач [11]. В то же время государство сохраняет за собой правомочия контролировать деятельность нотариусов: действующая редакция Основ о нотариате предусматривает, что контроль за выполнением нотариусами профессиональных обязанностей возложен на государственные органы и нотариальные палаты в зависимости от вида нотариуса. Например, за нотариусами в государственных конторах контроль осуществляет федеральный орган исполнительной власти и его территориальные подразделения, а за частнопрактикующими нотариусами – нотариальные палаты. Налоговые проверки их деятельности проводят налоговые органы. При этом право инициировать процедуру лишения полномочий (например, в случае совершения нотариусом преступления или грубого нарушения) по закону имели только нотариальные палаты – ни Минюст, ни прокуратура не вправе были напрямую обращаться в суд с таким ходатайством.
Предложенный проект нового Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности» (2025) существенно меняет эту балансировку. Одно из ключевых нововведений – усиление роли исполнительной власти в регулировании и контроле нотариата. В проекте указывается, что пределы тарифов на нотариальные действия теперь ежегодно утверждает Минюст, при этом региональные власти устанавливают конкретные цены на свои территории [9]. Нынешняя же система единого тарифа, сформированного нотариальными палатами в рамках возведённых ФНП лимитов, заменяется на схему с государственным определением предельных цен. По мнению Минюста, это исключит необоснованное завышение тарифов, однако фактически означает прямое вмешательство органов юстиции в коммерческие и хозяйственные условия нотариальной деятельности.
Кроме того, в проекте существенно расширяются полномочия Минюста и его территориальных органов относительно контроля нотариусов. Впервые в законопроекте закрепляется право органам юстиции и прокуратуры инициировать проверку деятельности нотариусов и обращаться в суд за лишением их полномочий [16]. Если в действующем порядке только нотариальная палата могла подать такое заявление, то новая редакция наделяет министерство и прокуратуру аналогичным правом. Более того, предусмотрены специальные государственные комиссии, которым поручается вести дисциплинарные производства в отношении нотариусов [9]. Это прямо меняет существующую систему: ранее дисциплинарные органы при нотариальных палатах осуществляли контроль за этикой и профессиональным поведением своих членов.
Критики таких инициатив отмечают, что на практике это означает введение в систему нотариата механизма «советско-административного» управления, когда «чиновник, органы исполнительной власти» получают «легальные, практически неограниченные возможности влиять на профессиональную деятельность нотариуса» [3]. Например, московский нотариус Г. Черемных указывал, что по новому проекту и Министерство юстиции, и Федеральная нотариальная палата «вправе по конкретному обращению провести проверку <…> и принять меры, вплоть до обращения в суд с заявлением о лишении нотариуса полномочий» [3], то есть создаётся ситуация, в которой нотариус оказывается одновременно подотчётным и контролируемым сразу несколькими централизованными институтами власти: и своими профессиональными палатами, и чиновниками Минюста с безграничными полномочиями. Черемных охарактеризовал это как «классический вариант советской административно-командной системы управления нотариатом» [3].
Особое беспокойство у юристов вызывает и формулировка о статусе нотариата как совместного ведения федерации и субъектов [9]. Предлагается существенно расширить полномочия регионов в надзоре за нотариальной сферой. Вкупе с новыми полномочиями Минюста и прокуратуры это значительно раздробит систему контроля над нотариусами и усилит «двойную подотчётность»: с одной стороны, каждый нотариус обязан подчиняться решениям собственных нотариальных палат (корпоративный контроль), а с другой – выполнять предписания и приказы государственного регулятора. В проекте отменяется и прежняя «совместная компетенция» ФНП и Минюста по изданию нормативных актов в сфере нотариата, то есть фактически упраздняется механизм вето нотариальных палат на инициативы государства, о котором жаловался глава Минюста К.Чуйченко. Кроме того, проект устанавливает жёсткие требования к отбору и отстранению нотариусов: кандидаты на должность председателя ФНП и глав региональных палат должны согласовываться с Минюстом, уменьшается срок их полномочий, и прямо формулируется, что «снимать нотариуса с должности смогут сами органы юстиции или прокуратура» [9].
Принимая во внимание масштабы предлагаемого контроля, уже отмечается большая значимость независимости нотариата для эффективной защиты гражданских прав. В настоящее время в России работают порядка 8199 нотариусов, объединённых в 88 нотариальных палат [4, с. 29]. Это сеть профессионалов, призванных действовать «в интересах обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина» как «высококвалифицированные независимые профессионалы» [2, с. 214]. Более 180 нотариусов были осуждены за коррупционные преступления и мошенничество[3], что, по мнению Минюста, доказывает необходимость усиления контроля. Однако сложившаяся практика показывает парадокс: фактически большинство осуждённых нотариусов остаются в профессии, поскольку региональные палаты не инициировали их отстранение, — «ситуация абсурдная», констатирует представитель Минюста [3]. Новый проект призван исправить этот пробел, но одновременно он грозит заменить коллегиальные решения на единоличные административные: вместо процедуры при участии коллегии по делу нотариуса вводятся «специальные государственные комиссии» и решения чиновников.
Исследуя природу двойной подотчётности нотариата, необходимо обратиться и к теоретическим основаниям публично-правового института в условиях саморегулирования. Как отмечает И.В. Решетникова, «нотариус в России действует как лицо, наделённое государственными полномочиями, но при этом не является государственным служащим, что создаёт правовую аномалию с точки зрения институциональной теории» [17, с. 125]. По её мнению, такое положение требует строгого разделения функций контроля, регулирования и самоуправления для предотвращения правовой коллизии. Подобные подходы поддерживает и В.В. Ярков, утверждающий, что попытки «придать нотариату черты административного органа разрушают систему гарантий независимости, выстроенную по принципу институционального баланса» [19].
Сравнительный анализ международного опыта показывает, что в большинстве стран с латинским типом нотариата контроль за профессиональной деятельностью нотариусов осуществляется через коллегиальные органы саморегулируемых организаций, а вмешательство государства ограничено только вопросами лицензирования и дисциплинарного надзора. Например, во Франции полномочия по приостановлению деятельности нотариуса принадлежат исключительно региональным нотариальным палатам, а Министерство юстиции может лишь инициировать проверку через Судебную палату [8, с. 76]. В Германии государственный контроль осуществляется преимущественно через административные суды, а не через прямое вмешательство министерств [10, с. 78].
На этом фоне российский проект 2025 года представляется шагом назад от принципа институционального разделения. Авторитетный исследователь И.С. Бачило подчёркивает, что в условиях цифровизации и интеграции нотариальных действий в единые государственные реестры «особую опасность представляет устранение института коллегиального самоконтроля и замена его вертикальной структурой контроля исполнительной власти» [1, с. 20]. Подобная модель, по её мнению, фактически делает нотариуса «агентом государства», что противоречит базовым принципам децентрализации публичных функций, предусмотренным статьями 12 и 15 Конституции РФ[ 6].
Проблема усугубляется отсутствием в проекте чётких процедурных гарантий при осуществлении дисциплинарных полномочий Минюстом. Как указано в Постановлении Конституционного Суда РФ №10-П от 23 июня 1995 г., «принятие решений о прекращении полномочий лиц, осуществляющих публичные функции, требует наличия ясных, формализованных и исключающих произвол процедур» [15]. Между тем в новой редакции Федерального Закона «О нотариате» допускается «обращение в суд с ходатайством о лишении статуса» без предварительного разбирательства в палате и даже без обязательного уведомления нотариуса о результатах проверки [5].
Негативные последствия подобного подхода уже наблюдаются в правоприменительной практике. Например, в деле № А40-156191/2020 Арбитражного суда города Москвы рассматривался спор между нотариусом и Минюстом, где последний отказал в продлении полномочий по причине «нарушения стандартов нотариального делопроизводства», не разъяснив, в чём именно состояло нарушение и не предоставив доказательств [14]. Суд указал, что такие действия являются «превышением компетенции государственного органа» и нарушают ст. 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в части права на уважение профессиональной репутации [21].
Монография О.Ю. Скворцовой «Нотариат как публично-правовой институт в правовой системе России» (2020) предлагает рассматривать нотариальные палаты как аналоги публичных корпораций, действующих по модели «функционального суверенитета» [18]. В этой модели государство передаёт определённый объём публичной функции автономному профессиональному сообществу, которое самостоятельно обеспечивает её реализацию и контроль за соблюдением стандартов. Вмешательство государства допустимо только в случае угрозы общественным интересам и должно носить исключительный характер. Между тем проект Минюста 2025 г. устанавливает постоянный, системный надзор, подрывая институциональный статус палаты как центра нормативного регулирования профессии.
С точки зрения конституционного анализа, указанное двойное подчинение также нарушает принцип правовой определённости. Как подчёркивает С.В. Поленин, «любое государственное вмешательство в независимую профессию должно быть ограничено рамками закона и обеспечено судебным контролем» [13, с. 128]. Если же нотариус вынужден подчиняться одновременно палатам, министерству, прокуратуре и региональной власти — нарушается принцип единства статуса субъекта, выполняющего публичные функции, и создаются условия для произвольного давления.
Дополнительную проблему представляет вопрос имущественной ответственности нотариуса при расширении государственного контроля. В соответствии со статьёй 11 проекта, нотариус обязан застраховать свою профессиональную ответственность, однако в случае недостаточности страховой выплаты обязан «возместить ущерб за счёт собственных средств» [5]. Это положение вступает в противоречие с механизмом государственного регулирования: если деятельность нотариуса подчиняется контролю Минюста, а тарифы утверждаются государством, то отсутствие адекватных компенсационных гарантий приводит к перекладыванию публичных рисков на частное лицо.
Итогом всех рассмотренных факторов становится деформация самого института нотариата как правозащитного органа. Как указывал А.И. Лейбо, нотариат выполняет функцию «опосредованной превенции правонарушений» и «не должен быть инструментом государства, а обязан оставаться над ним, на уровне гражданского общества» [7, с. 218]. В противном случае автор наблюдает трансформацию нотариуса из арбитра в сторону государственного исполнителя, что уже не раз осуждалось и Европейским судом по правам человека (решение по делу «Янков против Болгарии» от 11 декабря 2003 г., № 39084/97) [20].
Список литературы:
- Бачило И.С. Цифровизация нотариата: вызовы для публичного статуса // Правовая информатика. – 2022. – № 1. – С. 18–24.
- Быкович Д. А. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации // Молодой ученый. – 2012. – № 10 (45). – С. 213-215.
- Виноваты в том, что происходит, не нотариусы. Виноваты государство и ФНП // Pravo.ru. – URL: https://pravo.ru/court_report/view/82905/ (дата обращения 13.06.2025).
- Волкова М.В., Новак Е.С. Работа нотариусом в России: требования законодательства и перспективы // Право и управление. – 2024. – №12. – С. 26-31.
- Законопроект о нотариате и нотариальной деятельности от 13.02.2025 // Ведомости Федерального Собрания РФ. – 2025. – № 8. – Ст. 1125.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, принятыми в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2025. – № 44. – Ст. 6330.
- Лейбо А.И. Правоприменительная роль нотариуса: теоретико-правовой анализ // Правоведение. – 2017. – № 6. – С. 113–121.
- Маклаков В.В. Административная юстиция во Франции: монография. – М.: Перевод, 2006. – 123 с.
- Минюст объявил войну недобросовестным нотариусам // Парламентская газета. – URL: https://clck.ru/3MarWx (дата обращения: 12.05.2025).
- Мислицкая А.А. Административная юстиция в зарубежных странах (На примере Германии) // Молодой ученый. – 2021. – №15. – С. 78-81.
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 26.07.2019) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ (дата обращения: 12.05.2025).
- Письмо ФНП от 02.04.2013 № 735/06-06 «О законности применения средств видеонаблюдения в нотариальных конторах» // СПС Консультант. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153414/ (дата обращения: 10.06.2025).
- Поленин С.В. Принцип правовой определенности в публичном праве. – М.: Юстицинформ, 2021. – 224 с.
- Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 01.12.2020 по делу № А40-156191/2020 // URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/Fu0LckzzHqWA/ (дата обращения: 10.06.2025).
- Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 № 10-П // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 26. – Ст. 2403.
- Предложены масштабные изменения института нотариата в РФ // СПС Консультант. – URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/88312.html#:~:text=,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2 (дата обращения: 12.06.2025).
- Решетникова И.В. Проблемы институциональной конструкции нотариата в Российской Федерации // Журнал российского права. – 2019. – № 5. – С. 121-130.
- Скворцова О.Ю. Нотариат как публично-правовой институт в правовой системе России. – М.: Норма, 2020. – 196 с.
- Ярков В.В. Независимость нотариата в механизме защиты частных прав // Арбитражный и гражданский процесс. – 2021. – № 7. – С. 12-20.
- ECHR. Yankov v. Bulgaria, No. 39084/97, Judgment of 11 December 2003. — URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61964 (дата обращения: 10.06.2025).
- European Court of Human Rights. Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights. Updated: 31 August 2022. – URL: https://echr.coe.int (дата обращения: 10.06.2025).
дипломов
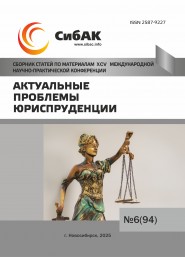

Оставить комментарий