Статья опубликована в рамках: XCV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 18 июня 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Уголовное право
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ЭВОЛЮЦИЯ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА НАКАЗАНИЙ: С СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается историко-правовая эволюция наказаний, связанных с изоляцией осуждённых от общества, в период с советской эпохи до современного этапа развития уголовного законодательства Российской Федерации. Исследуются изменения в правовой природе лишения свободы, трансформация подходов к пенитенциарной политике, а также соотношение целей наказания на различных этапах: от карательной и репрессивной модели советского периода до гуманизации и ресоциализации в постсоветский период. Особое внимание уделяется реформам уголовно-исполнительной системы, вопросам соблюдения прав человека в местах лишения свободы и внедрению международных стандартов. На основе анализа нормативных актов, судебной практики и доктринальных источников формулируются ключевые тенденции и перспективы дальнейшего развития института изоляционных наказаний в российской правовой системе.
Ключевые слова: лишение свободы, изоляция от общества, пенитенциарная система, уголовное наказание, эволюция, права осуждённых, ресоциализация, уголовно-исполнительное право.
Эволюция уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества, представляет собой важное направление исследования в рамках отечественной уголовно-правовой и уголовно-исполнительной науки. Институт лишения свободы традиционно занимает центральное место в системе наказаний, отражая не только уровень развития уголовного законодательства, но и господствующие в обществе представления о справедливости, допустимых пределах государственного принуждения и целях уголовной ответственности. В условиях исторических потрясений, смены политических режимов и идеологических установок именно наказания, сопряжённые с изоляцией от общества, претерпели наиболее существенные изменения, сохранив при этом свою актуальность и востребованность как меру государственного воздействия на лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния.
Одной из ключевых форм наказания, связанного с изоляцией от общества, является лишение свободы, которое в массовом восприятии традиционно отождествляется с тюремным заключением. Между тем в научной литературе отсутствует единое мнение относительно момента появления данной санкции в отечественном уголовном праве. Например, Л. П. Рассказов и И. В. Упоров указывают на Судебник 1550 года как на первое нормативное закрепление лишения свободы в качестве формы уголовного наказания, что позволяет рассматривать его как сравнительно позднее явление в правовой системе России [1].
Однако иные исследователи настаивают на более глубоком историческом корне рассматриваемого института. Анализ положений международных соглашений с германскими и византийскими державами X–XIII веков, в которых упоминается практика заключения в «погреба», позволяет утверждать наличие в Древней Руси охраняемых помещений, применявшихся для изоляции правонарушителей. Указанные погреба, представлявшие собой подземные помещения, фактически выполняли функции тюрем, несмотря на отсутствие формального правового закрепления данной меры как уголовного наказания [1].
Как подчёркивает В.И. Алексеев, в древнерусском праве отсутствовало понятие «тюрьма» в современном значении, однако активно применялись различные формы физического заключения. Используемые в источниках термины — «порубы», «погреба», «ямы», «застенки», «темницы», «остроги» — обозначали типы мест изоляции, выполнявших репрессивную функцию по отношению к лицам, нарушившим общественный порядок. Эти сооружения, несмотря на архаичный характер, по своей сути являлись функциональными предшественниками современных пенитенциарных учреждений [2].
Идеологические основы уголовного наказания в советский период претерпели существенные изменения по сравнению с дореволюционной карательной парадигмой. В отличие от преимущественно репрессивного подхода, характерного для уголовной политики Российской империи, советская уголовно-правовая доктрина рассматривала наказание в виде лишения свободы не только как меру возмездия за совершённое преступление, но и как средство исправления и социального перевоспитания осуждённого.
Одним из первых исследователей, разработавших данную концепцию, являлся Б.С. Утевский, который выделял в содержании лишения свободы два взаимосвязанных элемента: карательный и исправительно-воспитательный. Такая двухуровневая модель получила широкое распространение в уголовно-правовой теории и закрепилась в научной литературе на протяжении более трёх десятилетий. В рамках данной позиции изоляция осуждённого от общества рассматривалась не как самоцель, а как средство достижения более значимой задачи — формирования законопослушного поведения у правонарушителя [3].
М.Д. Шаргородский и другие представители советской правовой школы подчёркивали, что конечная цель наказания состоит в предупреждении совершения новых преступлений, достижение которой возможно исключительно через системное исправление поведения осуждённого. В данном контексте ключевым элементом исполнения наказания являлся труд: принудительное вовлечение осуждённых в общественно полезную деятельность рассматривалось как основа воспитательного воздействия. В соответствии с концептуальными установками советской пенитенциарной политики, посредством труда, дисциплины и включения в коллективную жизнь заключённый должен был интегрироваться в социалистическое общество как его полноценный участник [4].
Отражением этих идей стало нормативное закрепление принципа сочетания наказания и воспитательного воздействия в советском исправительно-трудовом праве. Законодательство предусматривало не только обязательное трудовое участие осуждённых, но и их вовлечение в образовательные и воспитательные программы. Таким образом, лишение свободы в условиях советской доктрины получило двойственную правовую природу, соединяя в себе функции наказания и ресоциализации.
С точки зрения историко-правового анализа, советский период занимает особое место в развитии института лишения свободы как формы уголовного наказания. Данный этап ознаменовался не только радикальной трансформацией идеологических установок в отношении наказания, но и глубокими институциональными изменениями в системе исполнения уголовных санкций.
Несмотря на то, что пенитенциарная система, унаследованная от Российской империи, формально продолжала функционировать после Октябрьской революции, фактически она находилась в состоянии глубокой дезорганизации. Отсутствие единой нормативной базы, разрыв административных связей и материально-техническое истощение привели к параличу механизмов исполнения наказаний. Условия содержания в местах лишения свободы резко ухудшились, а судебно-административные структуры, отвечающие за назначение и реализацию санкций, демонстрировали крайне низкую эффективность [5].
В ответ на кризисное состояние системы уже в январе 1918 года были предприняты первые меры по её реорганизации. Например, 16 января Главное управление мест заключения, функционирующее в условиях советской власти, направило циркуляр, предписывающий провести инвентаризацию тюремного фонда, унаследованного от дореволюционного режима. Проверки подтвердили неудовлетворительное состояние как пенитенциарных учреждений, так и кадрового обеспечения [5].
Одним из первых нормативных актов советского периода, направленных на реформирование системы исполнения наказаний, стало Постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР «О тюремных рабочих командах» (январь 1918 г.). В документе были закреплены положения о необходимости рационального использования труда заключённых с оплатой, осуществляемой за вычетом расходов на их содержание и охрану. Тем самым был заложен принцип экономической целесообразности исполнения наказания, совмещённый с идеологической установкой на трудовое перевоспитание. Кроме того, акт предусматривал меры материального стимулирования персонала мест заключения, что свидетельствовало о стремлении стабилизировать организационную структуру и обеспечить функционирование учреждений, реализующих наказания, сопряжённые с изоляцией от общества [5].
Формальное закрепление понятия уголовного наказания в советском праве впервые произошло в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 года — одном из ключевых нормативных актов раннего послереволюционного периода. Указанный документ имел концептуальное значение для становления новой уголовной политики, ориентированной на социалистические принципы и отказ от дореволюционной правовой модели [6].
В Руководящих началах был представлен перечень уголовных санкций, включающий пятнадцать видов наказаний, среди которых предусматривались как меры морального воздействия (внушение, общественное порицание, объявление под бойкотом), так и репрессивные меры — от лишения должности до лишения свободы и смертной казни. Такая широкая вариативность санкций отражала стремление советского законодателя к гибкости и индивидуализации уголовной ответственности, при одновременном сохранении возможности применения жёстких форм государственного принуждения [6].
Особое внимание в документе уделялось аресту, который характеризовался неопределённой правовой природой. Он совмещал в себе черты административного ареста и уголовного лишения свободы, дополняясь элементами принудительного труда. Подобная конструкция указывает на промежуточный статус данной меры и отсутствие на начальном этапе чёткой систематизации санкций, сопряжённых с изоляцией от общества [6].
В соответствии со статьёй 7 «Руководящих начал по уголовному праву РСФСР» 1919 года, наказание определялось как форма принудительного воздействия, посредством которой государственная власть обеспечивает охрану установленного порядка общественных отношений от нарушений: «...наказание — это те меры принудительного воздействия, посредством которых власть обеспечивает данный порядок общественных отношений от нарушителей последнего (преступников)» [7].
Авторы «Руководящих начал по уголовному праву РСФСР» интерпретировали уголовное наказание преимущественно как меру защиты общества, а не как средство исправления осуждённого. Согласно статье 10, исправительная функция наказания признавалась несостоятельной, поскольку преступник рассматривался как продукт социальной среды, лишённый свободы воли, а его действия — как следствие внешних обстоятельств. В связи с этим цель исправления исключалась из числа задач наказания [7].
В статье 25 был приведён перечень из пятнадцати видов уголовных санкций — от внушения и общественного порицания до наиболее суровых мер, таких как объявление вне закона и расстрел. Система санкций строилась по принципу возрастания строгости, отражая концепцию прогрессивного воздействия. Перечень имел открытый характер, что позволяло судам применять иные меры, не указанные прямо в тексте документа. Однако на практике доминировали именно те наказания, которые были прямо предусмотрены нормативным актом. Существенным новшеством стало исключительное наделение судебных органов компетенцией по назначению уголовного наказания. Согласно статье 4, реализация уголовной репрессии возлагалась исключительно на народные суды и революционные трибуналы, что устраняло многоуровневую дореволюционную систему карательных институтов. Вместе с тем в акте содержались положения, допускавшие назначение лишения свободы на неопределённый срок — до наступления «известного события», что порождало правовую неопределённость и приводило к формулировкам приговоров типа «до победы мировой революции» [7].
Документ также предусматривал возможность условного осуждения к лишению свободы, что свидетельствовало о стремлении к индивидуализации уголовной ответственности и более гибкому подходу к её реализации. Несмотря на идеологическую направленность и внутреннюю противоречивость, «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 года стали основополагающим нормативным актом раннего советского периода. Они впервые предложили целостную систему уголовных наказаний, сформулировали базовое определение наказания и заложили правовую основу для дальнейшего кодификационного развития уголовного законодательства в Советской России.
В последующем развитии советского уголовного права арест, первоначально рассматривавшийся как одна из форм уголовного наказания, был исключён из перечня уголовных санкций. Он трансформировался в меру административного воздействия за совершение правонарушений, а также в процессуальную меру пресечения, применяемую на стадии предварительного расследования. Указанное изменение отражало курс на дифференциацию между уголовной и административной ответственностью и стремление к систематизации института наказаний в зависимости от их степени строгости и правового назначения.
Значительную роль в становлении и развитии отечественной системы уголовных наказаний сыграл Уголовный кодекс РСФСР от 24 мая 1922 года, ставший первым кодифицированным источником советского уголовного права. Указанный нормативно-правовой акт закрепил лишение свободы в качестве одной из основных мер уголовного воздействия, допуская возможность его применения как с изоляцией осуждённого от общества, так и без неё. В соответствии со статьёй 34 УК РСФСР 1922 года, срок лишения свободы устанавливался в пределах от шести месяцев до десяти лет, при этом допускались как строгие условия отбывания наказания, так и более мягкие формы исполнения санкции [8].
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года стал результатом многолетней кодификационной работы по систематизации уголовного законодательства, сформировавшегося в период с 1917 по 1921 год. Кодекс отразил правоприменительный опыт карательных органов советского государства и одновременно стал первым комплексным законодательным актом новой эпохи, ознаменовавшей переход к мирному государственному строительству. В соответствии с его положениями лишение свободы рассматривалось в качестве основной меры уголовной ответственности и могло применяться судами как наиболее строгая санкция. Статья 34 Кодекса устанавливала предельный срок лишения свободы до десяти лет, с возможностью как строгой изоляции осуждённого, так и более мягких условий отбывания наказания [9].
Из системы уголовных наказаний, закреплённой в советском уголовном праве, арест был окончательно исключён в качестве самостоятельной меры уголовной репрессии. Он более не упоминался ни в исправительно-трудовом, ни в уголовном законодательстве последующих лет, сохранившись исключительно как административная санкция либо как мера пресечения в уголовном процессе.
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года закрепил прогрессивную для своего времени модель исполнения наказания, основанную на принудительном, но социально ориентированном труде осуждённых. Согласно статьям 2 и 3 ИТК, исправление должно было достигаться путём соблюдения режимных требований и обязательного привлечения осуждённых к общественно полезному труду. Одной из основных обязанностей администрации исправительных учреждений являлось обеспечение занятости заключённых, при этом труд рассматривался не как элемент наказания в традиционном смысле, а как средство воспитания и ресоциализации. В статье 51 прямо указывалось: «Занятие заключённых работами имеет воспитательно-исправительное значение, ставя своей целью приучить их к труду и, обучив какой-либо профессии, дать им тем самым возможность по выходе из места заключения жить трудовой жизнью» [9].
ИТК 1924 года предусматривал дифференцированный режим исполнения наказания в зависимости от категории осуждённого и характера преступления (ст. 100–144 ИТК). Наиболее строгой изоляции подвергались представители эксплуататорских классов, совершившие преступления, обусловленные «классовыми привычками, взглядами или интересами», а также лица, переведённые в строгие условия по дисциплинарным основаниям. Профессиональные преступники, не связанные с трудящимися, отбывали наказание в условиях без строгой изоляции; остальные осуждённые — в условиях простой изоляции. Такая система отражала ярко выраженную классовую направленность уголовной политики и подчинение пенитенциарной практики идеологическим задачам советского государства [9].
Особое внимание в ИТК уделялось вопросам социальной реадаптации освобождающихся. В статьях 10, 54 и 229 ИТК предусматривались меры содействия бывшим осуждённым: помощь в трудоустройстве, предоставление временного жилья, выдача ссуд на приобретение инвентаря и иные формы поддержки. В учреждениях внедрялись формы самодеятельности заключённых, направленные на получение профессиональных навыков, что должно было облегчить их интеграцию в общество после освобождения.
Характерной чертой указанного периода стало предоставление осуждённым, преимущественно крестьянам, отпуска для участия в сельскохозяйственных работах. С апреля 1925 года практика временного освобождения на срок до трёх месяцев получила широкое распространение. Применение данной меры зависело не от тяжести наказания, а от характера деяния. В частности, лица, осуждённые за должностные преступления, растраты, грабежи, разбой и иные тяжкие преступления, не подлежали отпуску. Отпуск включался в общий срок отбывания наказания, что обеспечивало правовую определённость соответствующего механизма.
Исполнение исправительно-трудовой политики осуществлялось при участии общественных структур, таких как наблюдательные и распределительные комиссии. Эти органы контролировали распределение заключённых и реализацию трудовых программ, что отражало стремление советской власти опираться на участие общества в формировании нового типа правового сознания и системы исполнения наказаний [9].
Существенным этапом институционализации исполнения наказаний, сопряжённых с изоляцией осуждённых от общества, стало принятие Исправительно-трудового кодекса РСФСР, утверждённого 16 октября 1924 года II сессией ВЦИК XI созыва. Указанный нормативный акт детально регламентировал порядок исполнения наказания в виде лишения свободы, а также определял виды учреждений, предназначенных для его отбывания. Одной из форм таких учреждений являлся дом заключения, в котором, наряду с другими категориями осуждённых, содержались лица, приговорённые к лишению свободы на срок до шести месяцев [6].
Важным шагом в развитии уголовного законодательства стало принятие 31 октября 1924 года «Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик», определивших разграничение компетенции между союзным центром и республиками в сфере уголовной политики. В соответствии со статьёй 3, уголовные законы союзных республик регулировали порядок применения наказаний, за исключением преступлений в области государственной и военной безопасности, относящихся к ведению Союза ССР.
Документ содержал систематизированный перечень мер социальной защиты, к числу которых относились:
- объявление врагом трудящихся с лишением гражданства СССР и изгнанием за пределы страны;
- лишение свободы с изоляцией или без неё;
- принудительные работы без изоляции;
- поражение в правах;
- административное удаление с определённой территории;
- запрещение определённых видов деятельности или должностей;
- общественное порицание;
- конфискация имущества;
- штраф и предостережение.
Основные начала 1924 года также отменили применение смертной казни в отношении несовершеннолетних и беременных женщин, что свидетельствовало о гуманистическом сдвиге в уголовной политике. Условное осуждение было выведено из перечня мер социальной защиты и стало рассматриваться как форма освобождения от наказания. Особенностью акта являлось включение предостережения в число санкций, несмотря на его применение даже при оправдательных приговорах, что подвергалось критике в доктрине в связи с отсутствием основания для уголовного наказания. По сравнению с УК РСФСР 1922 года были внесены качественные изменения в формулировку отдельных санкций: вместо бессрочного изгнания был установлен институт лишения гражданства и пожизненного изгнания, а административное удаление стало возможным в различных модификациях, включая запрет на проживание. Кроме того, законодатель отказался от установления минимального срока лишения свободы, что зафиксировано в статье 18 УК, усилив тем самым гибкость индивидуализации наказания. Особое место занимала практика ссылки и высылки лиц, формально не совершивших преступления, но признанных судом общественно опасными в силу прежней деятельности или связей с криминальной средой. Срок таких мер увеличивался с трёх до пяти лет, что подчёркивало приоритетность превентивной функции уголовной - правовой политики [10].
Значимым событием стало закрепление тюремного заключения в качестве самостоятельного вида уголовного наказания, что было предусмотрено Постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1936 года «О дополнении Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик». Это отражало тенденцию к систематизации и унификации подходов к применению уголовной репрессии [6].
Кодификационная реформа 1960-х годов завершилась принятием Уголовного кодекса РСФСР от 27 октября 1960 года, в котором была сформирована развернутая и иерархически структурированная система наказаний. К числу мер, сопряжённых с изоляцией, относились лишение свободы, ссылка, высылка, а также дисциплинарное направление военнослужащих в специальные батальоны. Наряду с ними предусматривались: исправительные работы без лишения свободы, штраф, общественное порицание, лишение права занимать определённые должности, конфискация имущества, лишение званий и государственных наград. Исключительную меру составляла смертная казнь, сохранявшая особый правовой статус [6].
Разработчики Уголовного кодекса 1960 года стремились дистанцироваться от репрессивных практик сталинского периода, придав институту наказания исправительную и превентивную направленность при сохранении его строгости и эффективности. Была выработана концепция замкнутой иерархии уголовных наказаний, обязательной как для правоприменителя, так и для законодателя, с ранжированием санкций по степени их тяжести.
Примечательной особенностью данного периода являлось функционирование механизма замены смертной казни лишением свободы. Например, в 1925 году Президиум ВЦИК заменил смертную казнь лишением свободы в 17,9 % случаев, а в 1926 году — уже в 25,5 %. После отмены смертной казни в 1947 году приговорённым к высшей мере назначалось лишение свободы сроком на 25 лет, позднее, в порядке помилования, — как правило, 15 лет. В результате изменений, внесённых 23 мая 1986 года в Основы уголовного законодательства СССР, было установлено, что при замене смертной казни лишением свободы срок может составлять более 15, но не более 20 лет, что отражало ужесточение уголовной репрессии при формальном смягчении санкции [6].
Определённая унификация организационно-правового порядка в деятельности исправительно-трудовых лагерей была достигнута с принятием Временной инструкции «О режиме в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР» от 2 августа 1939 года. Указанный нормативный акт отменял все ранее действовавшие подзаконные документы в сфере исполнения наказаний в лагерях и стал первым комплексным регламентом, охватывающим основные аспекты внутреннего устройства и функционирования ИТЛ. В соответствии с положениями Инструкции, основными задачами режима объявлялись «надлежащая изоляция преступников» и «организация наиболее эффективного использования труда заключённых». Это ознаменовало смещение акцентов уголовно-исполнительной политики в сторону репрессивно-экономической целесообразности, при фактическом отходе от целей исправления и индивидуализации наказания. Указанная тенденция особенно усилилась с началом Великой Отечественной войны, в условиях которой приоритетом стало максимальное использование трудового ресурса заключённых и обеспечение строгой изоляции. В первые недели после начала войны в ИТЛ был повсеместно введён строгий режим, увеличена продолжительность рабочего дня до 10–11 часов, повышены нормы выработки, ужесточены меры охраны и изоляции, приостановлены механизмы досрочного освобождения, а также началась концентрация заключённых на специальных лагерных пунктах. Лагерь в этот период функционировал преимущественно как экономический и политический ресурс, что привело к фактическому исчезновению воспитательной функции как элемента уголовно-исполнительной системы [12].
До принятия в 1970 году нового Исправительно-трудового кодекса РСФСР уголовно-исполнительные правоотношения продолжали регулироваться ведомственными подзаконными актами НКВД СССР, отличающимися фрагментарностью и казуистичностью. Среди них: Временная инструкция о режиме содержания заключённых в ИТЛ (1939 г.); Инструкция о содержании заключённых в ИТК (1940 г.); положения о штрафных изоляторах и тюрьмах НКВД и др. Отсутствие кодифицированной правовой базы негативно сказывалось на правоприменении и правовом статусе осуждённых.
Знаковым этапом реформирования системы стало принятие в 1969–1970 годах Основ исправительно-трудового законодательства СССР и союзных республик и нового ИТК РСФСР. Указанные акты обеспечили нормативную систематизацию и формализацию исполнения наказаний, связанных с изоляцией. Новый ИТК устранил открыто выраженный классовый подход, но сохранил идеологическую направленность, продолжая ориентировать уголовно-исполнительную систему на формирование «нового человека», преданного социалистическим ценностям [11]. После 1991 года в России начался этап коренной реформы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Принятый в 1996 году УК РФ (вступил в силу с 1997 г.) устранил анахроничные наказания советского периода, такие как ссылка и высылка, не соответствующие конституционным гарантиям. В перечень наказаний с изоляцией (ст. 44 УК РФ) были включены: лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы, арест и содержание в дисциплинарной воинской части. Ключевым изменением стало введение пожизненного лишения свободы в качестве наиболее строгой изоляционной меры, что соответствовало международным рекомендациям, зафиксированным, в частности, в Модельном УК для стран СНГ (1996 г.) [13].
В 1997 году был принят УИК РФ, определивший принципы исполнения наказаний: законность, гуманизм, равенство осуждённых. Закреплённая в статье 1 цель исполнения наказаний — исправление осуждённых и предупреждение новых преступлений — формально сохранила доктринальную преемственность советской модели. Однако реализация этих целей в 1990-е годы осложнялась переполненностью учреждений, нарушением санитарных норм, дефицитом медпомощи, что ставило под сомнение соответствие международным стандартам [13].
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 22 декабря 2015 года № 58 обобщил практику назначения наказаний: судам предписано учитывать характер и степень общественной опасности, личность виновного и цели исправления. Лишение свободы должно применяться при невозможности достижения целей иными мерами, с обязательным указанием вида исправительного учреждения [14].
В современной России система наказаний с изоляцией от общества представляет собой многоуровневую структуру, сочетающую строгость в отношении опасных преступников (вплоть до пожизненного заключения) с тенденцией к гуманизации и индивидуализации ответственности. Законы «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания» (1993 г.) и № 103-ФЗ (1995 г.) регламентируют полномочия ФСИН, порядок содержания под стражей, права осуждённых, режим, труд, образование и медицинское обслуживание. Стратегическим ориентиром выступает Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года (утв. в апреле 2021 г.), предполагающая цифровизацию процессов, снижение рецидива, усиление программ ресоциализации и внедрение альтернативных мер. Современная модель исполнения наказаний эволюционирует в сторону баланса между карательной, исправительной и правозащитной функциями.
Проведённое исследование позволило рассмотреть историко-правовую эволюцию наказаний, связанных с изоляцией осуждённых от общества, начиная с раннего советского периода и вплоть до современного состояния уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. Анализ нормативных актов, правоприменительной практики и доктринальных подходов показал, что институт лишения свободы сохранял центральное место в системе уголовных наказаний, несмотря на значительные изменения в его правовой природе, целях и формах реализации.
На протяжении всего исследуемого периода наблюдалось чередование карательных и гуманистических подходов, отражающее изменение политической конъюнктуры и идеологических ориентиров государства. В советское время приоритет отдавался исправительно-трудовому воздействию, коллективному перевоспитанию и трудовой мобилизации заключённых. В постсоветский период акценты были смещены в сторону соблюдения прав человека, ресоциализации и индивидуализации наказания, а также расширения применения альтернатив лишению свободы.
Современная система наказаний демонстрирует стремление к балансу между обеспечением общественной безопасности и выполнением международных обязательств в сфере прав человека. Несмотря на сохраняющиеся проблемы — такие как переполненность учреждений, недостаточное финансирование и кадровый дефицит — уголовно-исполнительная система России движется в сторону модернизации. Важным ориентиром служит Концепция развития УИС до 2030 года, предусматривающая цифровизацию, снижение рецидива и гуманизацию пенитенциарной политики.
Таким образом, эволюция наказаний, сопряжённых с изоляцией от общества, демонстрирует не только правовую, но и идеологическую трансформацию взглядов на цели и функции уголовной ответственности. Несмотря на декларируемые принципы гуманизма и ресоциализации, реализация этих задач в условиях современных исправительных учреждений сталкивается с рядом проблем: недостаточностью финансирования, кадровыми дефицитами, перегруженностью учреждений, а также формализмом в реализации воспитательных программ. Особенно уязвимыми остаются механизмы ресоциализации в колониях строгого режима, где труд и образование носят преимущественно имитационный характер.
Перспективным направлением развития института изоляционных наказаний представляется усиление индивидуализации исполнения наказания, внедрение современных программ адаптации и постпенитенциарной поддержки, а также цифровизация контроля за условиями содержания и соблюдением прав человека.
Список литературы:
- Лысенко М.И. Генезис понятия «изоляция» в науке исправительно-трудового (уголовно-исполнительного) права // Уголовно-исполнительное право. - 2013. - №1.
- Петренко Н.И. Организационно-правовые аспекты лишения и ограничения свободы в Древней Руси // Марийский юридический вестник. -2011. - №8.
- Суслина Е.В. Понимание лишения свободы в трудах М.М. Исаева и Б.С. Утевского // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - №12.
- Заболотских А.В. Теоретические воззрения о цели и сущности уголовного наказания в работах Шаргородского М.Д. и их актуальность // Пробелы в российском законодательстве. - 2012. - №3.
- О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР (вместе с Уголовным кодексом РСФСР): постановление ВЦИК от 01.06.1922 г. (утратило силу) // URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=78579 (дата обращения: 12.05.2025).
- Старчекова Е.А. История развития института наказаний, связанных с изоляцией от общества в послереволюционной России // Молодой ученый. — 2019. — № 49 (287). — С. 423–425.
- Годило Н.Н. Назначение наказания по уголовному праву России. — Пятигорск, 2004. — 518 с.
- Федеральная служба исполнения наказаний. Кузбасский институт ФСИН. Выпускная квалификационная работа по теме: Реализация наказаний, связанных с изоляцией в России: история и современное состояние. — 03.06.2019. — [Электронный ресурс]. — URL: file:///C:/Users//Downloads/yalalov_na.pdf (дата обращения: 03.04.2025).
- Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 года // URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=16671#GQr27oUw8QupSjk51 (дата обращения: 12.05.2025).
- Оганесян С.М. Эволюция пенитенциарной политики на завершающем этапе существования Советского Союза (60–90 гг. XX века) // Юридическая наука: история и современность. — 2017. — № 6. — С. 50–58.
- Упоров И.В. Трудоиспользование осужденных к лишению свободы в советском государстве в период от «оттепели» до «перестройки» // Аллея науки. — 2018. — Т. 4. — № 1 (17). — С. 322–330.
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2024) // СПС «КонсультантПлюс» — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 02.04.2025).
- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс» — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/ (дата обращения: 02.04.2025).
дипломов
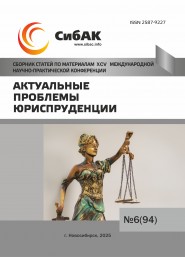

Оставить комментарий