Статья опубликована в рамках: XCIX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 20 октября 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Гражданское, жилищное и семейное право
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
КИБЕРБУЛЛИНГ, ОНЛАЙН-ХАРАССМЕНТ И ЦИФРОВОЕ НАСИЛИЕ: ДЕЛИКТНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
CYBERBULLYING, ONLINE HARASSMENT, AND DIGITAL VIOLENCE: TORT-LEGALLY PROTECTIVE MECHANISMS IN SOCIAL MEDIA
Allakuliev Mirzhalol Davronbekovich
Master of Law, researcher of Tashkent State Law University,
Uzbekistan, Tashkent
АННОТАЦИЯ
В статье исследует цифровое насилие как качественно новая форма деликтов, осуществляемых через цифровые платформы. Автор анализирует различные формы цифрового насилия: кибербуллинг, доксинг, свотинг, порно-месть и онлайн-сталкинг. Исследование демонстрирует, что традиционные деликтные категории недостаточны для квалификации цифрового насилия, поскольку технологическое опосредование создает специфические характеристики: анонимность агрессоров, масштабируемость вреда, перманентность контента и размытие границ между публичным и частным пространством. Автор отмечает, что психологический вред от цифрового насилия часто превосходит вред от офлайнового насилия в силу публичности унижения и невозможности избежать преследования. На основе международной практики рассматриваются различные правовые подходы, уделяется внимание балансу между защитой жертв и свободой выражения мнений. Автор критически оценивает эффективность систем модерации контента платформ и выявляет критическое отсутствие в узбекском законодательстве эффективных механизмов защиты, предлагая комплекс мер по признанию самостоятельных деликтов цифрового насилия и созданию специализированных органов поддержки жертв.
ABSTRACT
This article examines digital violence as a qualitatively new form of torts committed through digital platforms. The author analyzes various forms of digital violence: cyberbullying, doxing, swatting, revenge porn, and online stalking. The study demonstrates that traditional tort categories are insufficient for qualifying digital violence, as technological mediation creates specific characteristics: anonymity of aggressors, scalability of harm, permanence of content, and blurring of boundaries between public and private space. The author reveals that psychological harm from digital violence often exceeds harm from offline violence due to the publicity of humiliation and the impossibility of avoiding persecution. Based on international practice, various legal approaches are examined, with attention paid to the balance between victim protection and freedom of expression. The author critically evaluates the effectiveness of platform content moderation systems and identifies a critical absence of effective protection mechanisms in Uzbek legislation, proposing a set of measures to recognize independent torts of digital violence and establish specialized victim support bodies.
Ключевые слова: кибербуллинг, онлайн-харассмент, цифровое насилие, доксинг, порно-месть, психологический вред, модерация контента, защита жертв, социальные сети, Узбекистан.
Keywords: cyberbullying, online harassment, digital violence, doxing, revenge porn, psychological harm, content moderation, victim protection, social networks, Uzbekistan.
Массовая миграция социального взаимодействия в цифровое пространство создала новые формы межличностного насилия, которые используют уникальные характеристики цифровой среды для причинения вреда жертвам способами, не имеющими прямых аналогов в офлайновом мире. Если традиционные формы насилия и преследования ограничены физическим присутствием агрессора и жертвы в одном пространстве, то цифровое насилие преодолевает географические барьеры, позволяя преследовать жертву непрерывно независимо от ее местонахождения, мобилизовать распределенных агрессоров для координированных атак и создавать перманентные записи унижения, доступные неограниченной аудитории [1, с.1-35].
Термин "кибербуллинг" первоначально использовался преимущественно в контексте насилия среди несовершеннолетних в образовательной среде, обозначая систематическое преследование, унижение и запугивание одного ребенка другими через цифровые средства коммуникации. Однако феномен распространился далеко за пределы школьных дворов, став распространенной формой агрессии среди взрослых в профессиональных, политических и социальных контекстах. Современное понимание цифрового насилия включает широкий спектр форм поведения, объединенных использованием цифровых технологий для причинения психологического, репутационного или физического вреда [2].
Статистика демонстрирует тревожную распространенность цифрового насилия в глобальном масштабе. По данным исследования Pew Research Center, сорок один процент взрослых американцев лично сталкивались с онлайн-харассментом, причем восемнадцать процентов подвергались особо тяжелым формам, включающим физические угрозы, сексуальный харассмент, преследование и доксинг [3].
Психологические последствия цифрового насилия могут быть катастрофическими для жертв, включая депрессию, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, суицидальные мысли и попытки самоубийства, особенно среди несовершеннолетних. Перманентность и публичность цифрового унижения создают уникальный тип психологической травмы: в отличие от офлайнового насилия, свидетелями которого является ограниченное число людей, цифровое насилие разворачивается перед потенциально глобальной аудиторией и оставляет неудаляемые цифровые следы, к которым можно возвращаться бесконечно [4].
Традиционное деликтное право предлагает определенные средства защиты от действий, которые можно квалифицировать как диффамацию, вторжение в частную жизнь, причинение эмоционального стресса или угрозу насилием. Однако эти категории разрабатывались для офлайнового мира и не всегда адекватно охватывают специфику цифрового насилия. Многие формы онлайн-харассмента балансируют на грани защищенного выражения мнения и противоправного поведения, используя эвфемизмы, намеки и контекстуальные коды для передачи угрожающих или унижающих сообщений, которые формально не нарушают правовых норм [5, с.224-274].
Гражданский кодекс Республики Узбекистан содержит общие нормы о компенсации морального вреда, причиненного действиями, нарушающими личные неимущественные права граждан, но не содержит специальных положений о цифровом насилии и онлайн-харассменте [6]. Уголовный кодекс криминализирует угрозы, клевету и доведение до самоубийства, но эти нормы не учитывают специфику цифровой среды и часто оказываются неприменимыми к формам онлайн-харассмента, не подпадающим под традиционные составы преступлений [7]. Это создает правовой вакуум, оставляющий жертв цифрового насилия без эффективной защиты.
Целью данной статьи является комплексный анализ феномена цифрового насилия, его форм и последствий, изучение международного опыта правового регулирования и разработка предложений по созданию эффективной системы защиты от цифрового насилия в Узбекистане, балансирующей между защитой жертв и сохранением свободы выражения мнений.
Типология форм цифрового насилия и их специфические характеристики
Цифровое насилие включает разнообразные формы поведения, использующие различные технологические инструменты и причиняющие различные типы вреда, что требует дифференцированного подхода к правовому регулированию. Кибербуллинг в узком смысле обозначает систематическое преследование и унижение жертвы через повторяющиеся агрессивные действия в цифровом пространстве, включающие оскорбления, насмешки, распространение унижающих изображений или видео, исключение из онлайн-групп и сообществ, создание поддельных профилей от имени жертвы для публикации компрометирующего контента. Критическими элементами кибербуллинга являются намеренность агрессии, повторяемость действий и дисбаланс власти между агрессором и жертвой [8, с.1073-1137].
Доксинг представляет собой несанкционированное публичное раскрытие частной или идентифицирующей информации о лице с целью запугивания, создания угрозы безопасности или мобилизации других для атак на жертву. Раскрываемая информация может включать домашний адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, места работы или учебы, данные о членах семьи, медицинские записи, финансовую информацию. Доксинг часто используется как инструмент политического запугивания активистов, журналистов и публичных фигур, создавая реальную угрозу физической безопасности через раскрытие местонахождения жертвы потенциальным агрессорам [9, с.1313-1361].
Свотинг представляет особо опасную форму цифрового насилия, заключающуюся в ложном вызове экстренных служб, особенно полицейских спецподразделений, с ложным сообщением о серьезном преступлении или чрезвычайной ситуации по адресу жертвы, с целью спровоцировать вооруженное вторжение правоохранительных органов. Термин происходит от SWAT – Special Weaponsand Tacticsteams. Свотинг создает реальную угрозу жизни жертвы, учитывая возможность применения силы специальными подразделениями, и влечет значительные издержки для экстренных служб. Известны случаи со смертельным исходом в результате свотинга [10].
Порно-месть или неконсенсусное распространение интимных изображений обозначает публикацию сексуально откровенных изображений или видео лица без его согласия, часто бывшими романтическими партнерами в качестве мести за разрыв отношений. Порно-месть причиняет тяжелейший психологический и репутационный вред жертвам, преимущественно женщинам, разрушая карьеры, отношения и психическое здоровье. Перманентность и репликативность цифрового контента делает практически невозможным полное удаление интимных изображений после их публикации, обрекая жертв на пожизненное существование этих изображений в интернете [11, с.345-391].
Онлайн-сталкинг представляет навязчивое отслеживание и преследование жертвы в цифровом пространстве через постоянный мониторинг ее онлайн-активности, отправку навязчивых сообщений, появление в тех же онлайн-пространствах, что и жертва, использование технологий геолокации для отслеживания физического местонахождения жертвы. Цифровые технологии значительно облегчили сталкинг, позволяя преследователям непрерывно мониторить жертву без физического присутствия и собирать обширную информацию о ее жизни через социальные сети [12, с.842-856].
Координированный харассмент или кибермоббинг обозначает ситуацию, когда множество агрессоров одновременно атакуют жертву через различные каналы коммуникации, создавая эффект цифрового линчевания. Координация может быть явной через организацию в специальных группах или форумах, или неявной через вирусное распространение призывов атаковать жертву. Жертвы координированного харассмента могут получать тысячи враждебных сообщений, угроз и оскорблений за короткий период, создавая ощущение тотальной осады и беспомощности [13, с.2755-2781].
Психологический вред от цифрового насилия и проблемы его компенсации
Психологические последствия цифрового насилия часто превосходят по тяжести последствия сопоставимого офлайнового насилия в силу специфических характеристик цифровой среды. Публичность унижения перед потенциально глобальной аудиторией создает чувство тотального стыда и социальной изоляции. В то время как офлайновое унижение обычно известно ограниченному кругу свидетелей, цифровое унижение может быть просмотрено миллионами пользователей, комментировано, распространено и сохранено навсегда. Жертва осознает, что вредоносный контент видели или могли видеть все, кто ее знает - коллеги, друзья, семья, что создает парализующее чувство социальной уязвимости [14, с.321-326].
Перманентность цифрового контента означает, что унижение не проходит со временем, как это происходит с офлайновыми инцидентами, которые забываются. Вредоносный контент остается доступным через поисковые системы годами или десятилетиями после публикации, периодически "переоткрываясь" новыми аудиториями. Попытки удаления часто безуспешны, поскольку контент реплицируется на множестве платформ и устройств. Это создает состояние постоянной виктимизации: жертва не может "двигаться дальше", зная, что унижающий контент продолжает существовать и может в любой момент всплыть в новых контекстах [15].
Невозможность избежать преследования отличает цифровое насилие от физического, от которого можно уклониться через избегание определенных мест или людей. Цифровое преследование проникает во все аспекты жизни жертвы через смартфоны, компьютеры, социальные сети. Отключение от цифровых платформ означает социальную и профессиональную изоляцию в мире, где цифровое присутствие необходимо для работы, образования и социальных связей. Жертвы оказываются перед невозможным выбором между продолжением подверженности насилию и добровольной социальной изоляцией.
Анонимность или псевдонимность многих агрессоров создает ощущение беспомощности и невозможности достижения справедливости. В отличие от офлайнового насилия, где агрессор обычно идентифицируем, цифровые агрессоры могут скрываться за анонимными аккаунтами, затрудняя или делая невозможным привлечение их к ответственности. Это ощущение безнаказанности агрессоров усугубляет психологическую травму жертвы, создавая чувство несправедливости и бессилия правовой системы [16, с.1435-1484].
Исследования психологических последствий цифрового насилия выявляют высокие уровни депрессии, тревожности, посттравматического стрессового расстройства среди жертв. Метаанализ исследований кибербуллинга показал, что жертвы имеют в два-три раза более высокий риск суицидальных мыслей и попыток по сравнению с не-жертвами. Для несовершеннолетних последствия включают снижение академической успеваемости, социальную изоляцию, развитие психических расстройств. Для взрослых последствия включают профессиональный урон, разрушение отношений, развитие хронических тревожных расстройств [17, с.70-77].
Компенсация психологического вреда от цифрового насилия сталкивается с традиционными проблемами доказывания и квантификации морального вреда, усугубленными спецификой цифровой среды. Жертва должна доказать наличие психологического страдания, причинную связь между действиями ответчика и страданием, и определить размер компенсации. Однако многие формы цифрового насилия не оставляют видимых физических следов, а психологический вред может проявляться постепенно и кумулятивно. Суды часто недооценивают тяжесть психологического вреда от онлайн-харассмента, присуждая символические компенсации, несопоставимые с действительными страданиями жертв [18, с.189-234].
Ответственность платформ за непринятие мер против цифрового насилия
Операторы цифровых платформ занимают критическую позицию в предотвращении и пресечении цифрового насилия, поскольку большинство форм онлайн-харассмента осуществляется через их инфраструктуру. Однако правовые системы различаются в подходах к возложению обязательств и ответственности на платформы за контент пользователей, создающий цифровое насилие. Как обсуждалось в статье о деликтной ответственности платформ, американский раздел 230 CDA предоставляет платформам широкий иммунитет от ответственности за контент пользователей, включая контент, составляющий онлайн-харассмент [19].
Этот иммунитет подвергается интенсивной критике со стороны жертв цифрового насилия и правозащитных организаций, указывающих, что он устраняет стимулы для платформ проактивно предотвращать и пресекать онлайн-харассмент. Без угрозы юридической ответственности платформы минимизируют инвестиции в модерацию контента и системы защиты пользователей от насилия, фокусируясь на максимизации вовлеченности и прибыли даже когда вовлеченность достигается через конфликтный и токсичный контент [20, с.401-423].
Европейский подход устанавливает определенные обязательства платформ по оперативному реагированию на уведомления о незаконном контенте, включая контент, составляющий онлайн-харассмент. Германский NetzDG требует от платформ удаления очевидно незаконного контента, включающего угрозы и тяжелые оскорбления, в течение двадцати четырех часов. Акт о цифровых услугах ЕС требует от платформ обеспечить легкодоступные и понятные механизмы подачи жалоб пользователями и оперативно обрабатывать жалобы о незаконном контенте [21].
Однако эффективность этих обязательств зависит от качества имплементации и готовности платформ инвестировать достаточные ресурсы в модерацию. Автоматизированные системы обнаружения токсичного контента, используемые платформами для масштабирования модерации, имеют высокие показатели как ложноположительных, так и ложноотрицательных ошибок. Системы могут блокировать легитимную критику или использование спорной лексики в контексте переосмысления, одновременно пропуская изощренный харассмент, использующий эвфемизмы, контекстуальные коды или изображения вместо текста.
Проблема усугубляется координированным харассментом, где множество агрессоров одновременно атакуют жертву. Каждое отдельное сообщение может не нарушать правила платформы при изолированном рассмотрении, но совокупный эффект тысяч сообщений создает тяжелый харассмент. Системы модерации, рассматривающие каждую жалобу изолированно, не распознают паттерн координированной атаки. Жертвы вынуждены подавать тысячи отдельных жалоб, что практически невозможно, в то время как платформы не предоставляют механизмов для сообщения о координированном харассменте как едином инциденте [22, с.512-533].
Некоторые юрисдикции начинают устанавливать проактивные обязательства платформ по предотвращению цифрового насилия. Великобритания в проекте Закона о безопасности онлайн устанавливает обязанность заботы платформ по защите пользователей от вредоносного контента, включая харассмент, требуя проактивных мер по дизайну систем, снижающих риски насилия. Австралия приняла схему eSafetyCommissioner, уполномочивающую специального комиссара требовать от платформ удаления контента, составляющего серьезный онлайн-харассмент взрослых или кибербуллинг детей [23].
Баланс между защитой от цифрового насилия и свободой выражения мнений
Регулирование цифрового насилия должно тщательно балансировать между защитой жертв и сохранением свободы выражения мнений, избегая создания инструментов цензуры легитимной критики и политического инакомыслия. Историческая проблема законов против харассмента и оскорблений заключается в их использовании властями и влиятельными субъектами для подавления критики и журналистских расследований под предлогом защиты от диффамации или оскорблений. Риск злоупотреблений особенно высок в контексте онлайн-пространства, где правительства и корпорации имеют стимулы к контролю информационных потоков [24].
Ключевым вопросом является разграничение между защищенной критикой, даже резкой и неприятной, и незащищенным харассментом. Международные стандарты прав человека защищают не только вежливую и конструктивную критику, но и критику, шокирующую, оскорбляющую или беспокоящую объект критики, поскольку такова природа плюрализма мнений в демократическом обществе. Однако защита не распространяется на угрозы насилием, систематическое преследование, раскрытие частной информации с целью запугивания, или координированные кампании, направленные не на критику идей, а на заставление жертвы замолчать через запугивание [25].
Некоторые исследователи предлагают концепцию "дискурсивного намерения" как критерия разграничения: защищена коммуникация, направленная на участие в общественном дискурсе, выражение мнения, критику идей или действий; не защищена коммуникация, направленная на причинение вреда жертве, запугивание, подавление ее участия в дискурсе. Однако применение этого критерия на практике сталкивается со сложностями определения намерения и разграничения контента, одновременно выражающего мнение и причиняющего вред [26].
Особую проблему представляет политически мотивированный харассмент, где агрессоры утверждают, что их действия составляют политическую критику, защищенную свободой слова. Публичные фигуры, особенно женщины и представители меньшинств в политике, журналистике и активизме, сталкиваются с интенсивным онлайн-харассментом, который формально представляется как политическая дискуссия, но фактически направлен на их заставление покинуть публичное пространство через запугивание. Исследования показывают, что такой харассмент имеет чиллинг-эффект, заставляя женщин и представителей меньшинств самоцензурироваться и ограничивать свое публичное участие [27].
Баланс может достигаться через требование, чтобы ограничения онлайн-харассмента были узко сформулированы, фокусируясь на наиболее тяжелых формах насилия с четкими объективными критериями, минимизируя усмотрение правоприменителей. Законодательство должно избегать расплывчатых терминов вроде "оскорбительного" или "неприятного" контента, фокусируясь на конкретных формах поведения: угрозы насилием, доксинг, неконсенсусное распространение интимных изображений, систематическое преследование. Процедуры правоприменения должны включать судебный надзор и возможность обжалования, предотвращая произвольные решения платформ или административных органов [28].
Предложения по созданию системы защиты от цифрового насилия в Узбекистане
На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие предложения по созданию эффективной системы защиты от цифрового насилия в Республике Узбекистан. Первым предложением является внесение изменений в Гражданский кодекс, признающих самостоятельные деликты кибербуллинга и онлайн-харассмента. Предлагается дополнить кодекс статьей, устанавливающей, что систематическое преследование, унижение или запугивание лица через цифровые средства коммуникации, причиняющее психологическое страдание или вред репутации, влечет обязанность компенсации морального вреда и может служить основанием для судебного запрета дальнейших действий [29].
Статья кодекса должна устанавливать презумпцию значительного морального вреда от определенных форм цифрового насилия, включая доксинг, неконсенсусное распространение интимных изображений, угрозы насилием, освобождая жертву от необходимости детального доказывания конкретных психологических последствий. Размер компенсации должен учитывать тяжесть действий, их повторяемость, степень публичности, количество агрессоров при координированном харассменте, уязвимость жертвы [30].
Вторым предложением является внесение изменений в Уголовный кодекс, криминализирующих наиболее тяжелые формы цифрового насилия. Предлагается установить уголовную ответственность за доксинг с целью запугивания или создания угрозы безопасности; неконсенсусное распространение интимных изображений; свотинг; систематическое преследование через цифровые средства, создающее обоснованный страх за безопасность жертвы или членов ее семьи; координированный харассмент группой лиц по предварительному сговору [31].
Третьим предложением является принятие Закона об обязательствах операторов цифровых платформ по предотвращению и пресечению цифрового насилия. Закон должен установить обязательность наличия ясных, легкодоступных механизмов подачи жалоб на онлайн-харассмент; обязательность оперативного рассмотрения жалоб с установленными сроками реагирования в зависимости от тяжести нарушения; обязательность предоставления жертвам инструментов для блокировки агрессоров и контроля за видимостью своего контента; обязательность прозрачных процедур модерации с возможностью обжалования решений; обязательность публикации регулярных отчетов о количестве жалоб на харассмент и принятых мерах [32].
Четвертым предложением является создание при Агентстве по развитию информационно-коммуникационных технологий или Уполномоченном по правам человека специализированного Центра помощи жертвам цифрового насилия, предоставляющего психологическую поддержку, юридическое консультирование, содействие в сборе доказательств и взаимодействии с платформами и правоохранительными органами. Центр должен вести горячую линию для жертв, предоставлять информационные материалы о защите от цифрового насилия, координировать с платформами удаление вредоносного контента [33].
Пятым предложением является интеграция образования о цифровой безопасности, этике онлайн-поведения и предотвращении цифрового насилия в школьные и университетские программы. Молодые люди должны понимать последствия своих действий в цифровом пространстве, распознавать признаки цифрового насилия, знать, как защититься и куда обращаться за помощью. Программы должны также адресовать родителей, обучая их мониторингу онлайн-активности детей и распознаванию признаков виктимизации или участия в кибербуллинге [34].
Заключение
Проведенное исследование выявило цифровое насилие как качественно новую форму деликтов, использующую уникальные характеристики цифровой среды для причинения психологического и репутационного вреда, часто превосходящего по тяжести сопоставимое офлайновое насилие. Традиционные деликтные категории оказываются недостаточными для адекватной защиты жертв, требуя создания специальных правовых институтов, учитывающих специфику цифрового пространства.
Эффективная система защиты от цифрового насилия должна сочетать деликтные средства защиты для компенсации вреда жертвам, уголовную ответственность за наиболее тяжкие формы, обязательства платформ по предотвращению и пресечению онлайн-харассмента, специализированную поддержку жертв и образовательные программы. Критически важным является сохранение баланса между защитой от насилия и свободой выражения мнений, избегая создания инструментов цензуры легитимной критики.
Список литературы
- Citron D.K. Hate Crimes in Cyberspace. Cambridge: Harvard University Press, 2014. P. 1-35.
- Duggan M. Online Harassment 2017. Pew Research Center. 2017.
- Pew Research Center. The State of Online Harassment. 2021.
- Hinduja S., Patchin J. Bullying Beyond the Schoolyard. 3rd ed. Thousand Oaks: Corwin, 2015.
- Franks M.A. Unwilling Avatars // Columbia Journal of Gender and Law. 2011. Vol. 20. P. 224-274.
- Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Статья 1002. Компенсация морального вреда.
- Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Статья 139. Доведениедосамоубийства.
- Kowalski R., Giumetti G., Schroeder A., Lattanner M. Bullying in the Digital Age // Psychological Bulletin. 2014. Vol. 140. P. 1073-1137.
- Douglas D. Doxing // University of Miami Law Review. 2016. Vol. 70. P. 1313-1361.
- Kushner D. The Masked Avengers // The New Yorker. September 8, 2014.
- Citron D.K., Franks M.A. Criminalizing Revenge Porn // Wake Forest Law Review. 2014. Vol. 49. P. 345-391.
- Southworth C., Finn J., Dawson S., Fraser C., Tucker S. Intimate Partner Violence // Violence Against Women. 2007. Vol. 13. P. 842-856.
- Marwick A., Miller R. Online Harassment, Defamation, and Hateful Speech // Fordham Law Review. 2014. Vol. 83. P. 2755-2781.
- Suler J. The Online Disinhibition Effect // Cyberpsychology& Behavior. 2004. Vol. 7. P. 321-326.
- Mayer-Schönberger V. Delete: The Virtue of Forgetting. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Citron D.K., Norton H. Intermediaries and Hate Speech // Boston University Law Review. 2011. Vol. 91. P. 1435-1484.
- John A., Glendenning A., Marchant A. et al. Self-Harm, Suicidal Behaviours, and Cyberbullying // Lancet Child & Adolescent Health. 2018. Vol. 2. P. 70-77.
- Nunziato D. Virtual Freedom. Stanford: Stanford University Press, 2009. P. 189-234.
- 47 U.S.C. § 230. Communications Decency Act. United States.
- Citron D.K., Wittes B. The Internet Will Not Break // Fordham Law Review. 2017. Vol. 86. P. 401-423.
- Digital Services Act. Regulation (EU) 2022/2065. Articles 16-17.
- Massanari A. #Gamergate and TheFappening // Feminist Media Studies. 2017. Vol. 17. P. 512-533.
- Online Safety Act 2023. United Kingdom. Section 8.
- Kaye D. Speech Police. New York: Columbia Global Reports, 2019.
- UN Special Rapporteur on Freedom of Expression. Report on Online Hate Speech. A/74/486. 2019.
- Waldron J. The Harm in Hate Speech. Cambridge: Harvard University Press, 2012.
- Sobieraj S. Credible Threat. New York: Oxford University Press, 2020.
- La Rue F. Report on Key Trends and Challenges. UN Human Rights Council. A/HRC/14/23. 2010.
- Проект изменений в ГК РУз. Статья 1002-1. Ответственность за кибербуллинг. 2025.
- Проект изменений. Статья 1002-1, часть 3. Презумпция морального вреда.
- Проект изменений в УК РУз. Статья 139-1. Цифровое насилие. 2025.
- Проект закона РУз «Об обязательствах цифровых платформ». Глава 4. Защита от цифрового насилия. 2025.
- Проект положения о Центре помощи жертвам цифрового насилия. 2025.
- Проект концепции образования о цифровой безопасности. Министерство образования РУз. 2025.
дипломов
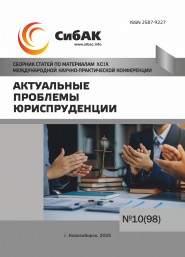

Оставить комментарий