Статья опубликована в рамках: XCIX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 20 октября 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Конституционное право
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
«ДОСТОИНСТВО ПОД ДОПРОСОМ»: ВЕРХОВНЫЙ СУД США И УРОКИ ДЕЛА MIRANDA V. ARIZONA
"DIGNITY UNDER INTERROGATION": THE U.S. SUPREME COURT AND THE LESSONS OF MIRANDA V. ARIZONA
Zohidov Manuchehr
Postgraduate student of the Department of Constitutional Law and Constitutional Proceedings of the Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье проводится комплексный анализ категории человеческого достоинства в контексте знакового решения Верховного Суда США по делу Miranda v. Arizona, ставшего одним из ключевых в истории американского конституционного правосудия. Автор рассматривает, каким образом Суд связал гарантии права на молчание и права на квалифицированную юридическую помощь с идеей уважения к личности как автономному и разумному существу. Особое внимание уделяется трансформации понимания допроса – от принудительного инструмента установления истины к процессу, в котором государственная власть ограничивается необходимостью сохранять уважение к человеческому достоинству даже в отношении подозреваемого в преступлении. Делается вывод о том, что решение по делу Miranda стало прецедентом, утвердившим достоинство личности в качестве одного из скрытых, но ключевых принципов американского конституционализма, оказавшего влияние на развитие конституционных стандартов уголовного процесса в США.
ABSTRACT
This article offers a comprehensive analysis of the concept of human dignity in the context of the landmark decision of the U.S. Supreme Court in Miranda v. Arizona, which became one of the key rulings in the history of American constitutional justice. The author examines how the Court linked the guarantees of the right to remain silent and the right to qualified legal assistance with the idea of respect for the individual as an autonomous and rational being. Particular attention is paid to the transformation of the understanding of interrogation – from a coercive instrument of truth-finding to a process in which state power is constrained by the need to preserve respect for human dignity, even toward those suspected of committing a crime. The article concludes that the Miranda decision established human dignity as one of the implicit yet fundamental principles of American constitutionalism, influencing the development of constitutional standards of criminal procedure in the United States.
Ключевые слова: Верховный Суд США, достоинство личности, конституционное право, Пятая поправка, Конституция США, права человека, правосудие, уголовный процесс.
Keywords: U.S. Supreme Court, human dignity, constitutional law, Fifth Amendment, U.S. Constitution, human rights, justice, criminal proceedings.
Одним из самых знаковых и, без преувеличения, переломных решений в истории американского правосудия стало постановление Верховного Суда США по делу Miranda v. Arizona[1]. Это решение Суда 60-летней давности, принятое под председательством одного из выдающихся его председателей – Эрла Уоррена, стало не просто судебным прецедентом, а подлинной вехой в развитии американской правовой мысли, обозначившей новый уровень осмысления соотношения между властью государства и достоинством личности в условиях уголовного процесса.
До вынесения этого решения допрос подозреваемого в США воспринимался преимущественно как техническая, инструментальная процедура, направленная на извлечение признания и получение доказательств. На практике он часто превращался в испытание, сопровождавшееся психологическим давлением, длительным изматыванием, угрозами, а иногда и прямым насилием. Подозреваемый в такой ситуации фактически утрачивал человеческое измерение своего статуса и рассматривался лишь как источник информации – объект, над которым государство могло свободно применять свои властные инструменты.
Верховный Суд в деле Миранды решительно порвал с этим подходом. Судьи заявили, что поиск истины не может оправдывать методов, которые унижают достоинство человека. Тем самым Суд впервые отчетливо сформулировал принцип: даже в состоянии подозрения, находясь лицом к лицу с карательным аппаратом государства, человек остается субъектом права, носителем свободы и внутреннего достоинства, которое не может быть принесено в жертву эффективности следствия.
В историческом контексте этого дела, необходимо отметить, что в 1960-е годы в американском обществе всё более явно проявлялась озабоченность методами работы полиции и общим состоянием уголовного правосудия. Этот период стал временем острых общественных дискуссий о границах допустимого государственного вмешательства и правах личности, оказавшейся под следствием. На фоне борьбы за гражданские права, роста недоверия к институтам власти и стремления к большей прозрачности в деятельности правоохранительных органов в общественном сознании укреплялась мысль: эффективность расследования не может оправдывать произвол. В эти же годы активно развивалось движение за обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь, в котором ключевую роль играли адвокатские ассоциации и правозащитные организации. Эти инициативы, ранее носившие локальный или волонтёрский характер, постепенно получили институциональное закрепление. Одним из знаковых шагов стало создание в рамках программы президента Линдона Джонсона «Великое общество» (Great Society) организации Legal Services Corporation – Общества юридических услуг, призванного гарантировать доступ к правосудию для социально уязвимых граждан. Таким образом, идея равенства перед законом получила практическое воплощение в механизмах бесплатной юридической помощи.
Юридические и общественные сдвиги этого времени сопровождались и революционными изменениями в судебной практике. Например, решением Верховного Суда по делу Escobedo v. Illinois (1964) было впервые прямо признано право подозреваемого на присутствие адвоката во время полицейского допроса. Суд пришёл к выводу, что отказ в допуске защитника в этот критический момент нарушает гарантии справедливого разбирательства, закреплённые Шестой поправкой к Конституции США. Решение по делу было принято через год после того, как Суд в деле Gideon v. Wainwright (1963) постановил что, государство обязано предоставлять адвоката лицам, обвиняемым по уголовным делам, даже если фигуранты преступления не имеют финансовой возможности оплатить юридические услуги.
Тем самым Суд под председательством Уоррена начинает обозначать новую правовую парадигму в уголовно-процессуальной сфере – переход от формального понимания процессуальных прав к их реальному обеспечению. Решения по делам Gideon и Escobedo стали важнейшими предвестниками дела Miranda, в котором этот подход получил дальнейшее развитие и окончательное закрепление. В совокупности эти решения заложили основу современного американского уголовного процесса, в центре которого стоит не просто защита от произвола государства, но и уважение к достоинству личности как высшей правовой ценности.
Перейдем к непосредственному анализу дела.
13 марта 1963 года Эрнесто Миранда был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении грабежа и изнасилования и доставлен в полицейский участок для проведения следственных действий. В условиях полной изоляции, без возможности общения с внешним миром и без присутствия адвоката, в течение двухчасового допроса полицейские добились от него письменного признания в совершении инкриминируемых преступлений.
Миранда подписал признание в изнасиловании на бланке, где содержалось напечатанное заявление следующего содержания: «Я настоящим клянусь, что даю эти показания добровольно и по собственной воле, без каких-либо угроз, принуждения или обещаний иммунитета, и с полным осознанием своих законных прав, понимая, что любое сделанное мною заявление может быть использовано против меня».
Это признание впоследствии стало центральным доказательством обвинения и было принято судом как допустимое, несмотря на возражения стороны защиты, настаивавшей на том, что Миранде до начала допроса не были разъяснены его конституционные права – в частности, право хранить молчание и право на помощь адвоката. Присяжные, опираясь главным образом на полученное заявление, признали Миранду виновным по предъявленным обвинениям. Верховный Суд штата Аризона оставил вынесенный приговор без изменения, признав, что нарушений конституционных прав не усматривается, поскольку сам Миранда не заявил явным образом ходатайства о предоставлении ему защитника.
Верховный Суд США принял дело к производству, перед ним был поставлен вопрос о том, распространяется ли защита от самообвинения, гарантированная Пятой поправкой, на полицейский допрос подозреваемого.
13 июня 1966 года Верховный Суд 5 голосами против 4 вынес решение в пользу Миранды, отменив его приговор и направив дело обратно в суд штата Аризона для нового рассмотрения. Председатель Суда Уоррен составил решение от имени большинства, в котором, в частности, было указано, что из-за принудительного характера допроса, проводимого полицией в условиях изоляции, никакое признание не может быть расценено допустимым в соответствии с положением Пятой поправки о защите от самообвинения и Шестой поправки о праве на адвоката, если только подозреваемый не был предварительно уведомлён о своих правах и не отказался от них осознанно и добровольно.
Уоррен, рассуждая о природе допроса, подчеркнул, что допрос не имеет иной цели, кроме как подчинить подозреваемого воле допрашиваемого. Эта атмосфера сама по себе является признаком запугивания. Хотя допрос, безусловно, автоматически не предполагает физического воздействия на человека, такая обстановка оказывает деструктивное воздействие на достоинство личности. Изложив принципы, лежащие в основе защиты лица от самообвинения, Суд пояснил, что конституционной основой, лежащей в основе этой привилегии, является уважение, которое власти (федеральные или штатов) должны проявлять в отношении достоинства своих граждан [2, с. 460].
Судьи, выразившие особое мнение по делу, подвергли критике коллег, составивших большинство, обвинив их в чрезмерном акцентировании внимания на категории достоинства личности и в излишне расширительном толковании Пятой поправки. По их мнению, такой подход не только выходит за пределы конституционного замысла, но и создает риски для нормального функционирования системы уголовного правосудия, ограничивая эффективность работы правоохранительных органов и подрывая общественную безопасность.
Например, судья Уайт указал, что дело не только в человеческом достоинстве обвиняемого – необходимо также сохранять человеческую личность других членов общества. Таким образом, ценность гарантии от самообвинения не является единственным императивом, заинтересованность общества в безопасности имеет такую же силу, поскольку бесполезно рассуждать о достоинстве личности и цивилизованных ценностях, если государство не в состоянии обеспечить общественную безопасность [2, с. 537, 539].
После того как Верховный Суд США отменил первоначальный приговор, дело Эрнесто Миранды было пересмотрено с исключением его признательных показаний из числа доказательств. Однако, несмотря на это, суд вновь признал Миранду виновным, опираясь на иные доказательства, включая свидетельские показания. В результате он был приговорён к тюремному заключению сроком от 20 до 30 лет.
В 1972 году Миранда вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, став при этом фигурой, невольно вошедшей в историю американского права. В последующие годы он зарабатывал, подписывая сувенирные карточки с текстом «Miranda warning» – того самого знаменитого предупреждения, которое обязаны произносить полицейские при задержании. Иронично, но его жизнь закончилась трагически: в 1976 году Миранда был убит в драке в баре, а его предполагаемого убийцу освободили после того, как тот воспользовался, помимо прочего,… правом хранить молчание по правилу Миранды.
Решение по делу Miranda v. Arizona стало одним из самых влиятельных прецедентов в истории американского уголовного процесса. Оно установило обязательность информирования каждого задержанного о его фундаментальных правах – праве хранить молчание и праве на адвоката. Эти положения, вошедшие в практику под названием «правило Миранды» (Miranda rule), стали символом защиты личности от произвола следствия и воплощением идеи, что даже подозреваемый сохраняет человеческое достоинство и юридическую субъектность.
Однако введение правила Миранды вызвало бурную общественную и политическую дискуссию. Многие критики – особенно из числа консерваторов – расценили его как излишнюю поблажку преступникам, способную подорвать эффективность борьбы с преступностью. Среди наиболее влиятельных оппонентов был Ричард Никсон, заявивший, что это решение ослабляет полицию и затрудняет получение признаний, а следовательно – мешает защите общества. Противники утверждали, что Miranda ставит интересы обвиняемого выше интересов правопорядка.
В качестве другого примера можно привести то, что решение по делу Miranda выдержало серьёзное испытание в деле Dickerson v. United States (2000), когда Верховному Суду предстояло определить, имел ли Конгресс право отменить правило Миранды. Основной вопрос заключался в том, является ли «правило Миранды» конституционно обязательным или же представляет собой лишь судебную доктрину, выработанную в порядке судебной политики.
В решении, составленном от имени большинства председателем Суда Уильямом Ренквистом, Суд 7 голосами против 2 подтвердил силу решения по делу Miranda, подчеркнув, что «эти предупреждения стали частью нашей национальной правовой культуры».
Таким образом, несмотря на первоначальную волну критики и неоднократные попытки ограничить действие правила, «Miranda warning» со временем превратилось в неотъемлемый элемент американской правовой культуры –символ цивилизованного правосудия, в котором достоинство человека признаётся даже за тем, кого государство подозревает в преступлении.
Список литературы:
- Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
- Ibid. at 460.
- Ibid. at 537, 539. Особое мнение судьи Уайта (dissenting opinion).
дипломов
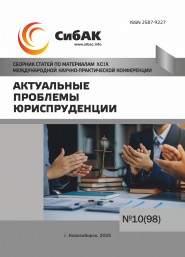

Оставить комментарий