Статья опубликована в рамках: XCIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 21 апреля 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Актуальные вопросы противодействия преступности, носящей коррупциогенный характер
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
КОРРУПЦИЯ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
CORRUPTION AS A FACTOR SPONSORING THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRIME: CRIMINOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS
Diana Bimanova
Master's student of the 2nd course, Department «History of Kazakhstan and Law» NAO «North Kazakhstan University named after M.Kozybaev»
RK, Petropavlovsk
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу коррупции как ключевого фактора, способствующего эскалации экономической преступности в современном обществе. Автор рассматривает взаимосвязь между коррупционными практиками и нарушениями в экономической сфере, акцентируя внимание на механизмах, через которые коррупция дестабилизирует правовую и экономическую систему государства. На основе сравнительного анализа уголовного законодательства России и Казахстана выявлены общие и специфические подходы к криминализации коррупционных деяний. Особое внимание уделено дефектам правоприменительной практики и необходимости совершенствования нормативных правовых основ борьбы с коррупцией. В статье предложен комплекс научно-обоснованных мер по усилению уголовно-правового воздействия, включая внедрение института уголовной ответственности юридических лиц, расширение перечня коррупционных преступлений, дифференциацию ответственности за рецидив, модернизацию механизма конфискации имущества и институциональные меры воздействия. Результаты исследования подчеркивают необходимость системного и междисциплинарного подхода к противодействию коррупции как условию обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития государства.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of corruption as a key factor contributing to the escalation of economic crime in modern society. The author examines the relationship between corrupt practices and violations in the economic sphere, focusing on the mechanisms through which corruption destabilizes the legal and economic system of the state. Based on a comparative analysis of the criminal legislation of Russia and Kazakhstan, the author identifies common and specific approaches to the criminalization of corrupt practices. Special attention is paid to the defects of law enforcement practice and the need to improve the normative legal framework of the fight against corruption. The paper proposes a set of science-based measures to strengthen the criminal-legal impact, including the introduction of the institute of criminal liability of legal entities, expansion of the list of corruption offenses, differentiation of liability for recidivism, modernization of the mechanism of property confiscation and institutional measures of impact. The results of the study emphasize the need for a systemic and interdisciplinary approach to combating corruption as a condition for ensuring economic security and sustainable development of the state.
Ключевые слова: коррупция, экономическая преступность, противодействие коррупции, криминологические аспекты, уголовно-правовые аспекты.
Keywords: corruption, economic crime, counteraction to corruption, criminological aspects, criminal-legal aspects.
Коррупция и экономическая преступность представляют собой взаимосвязанные и взаимообусловленные явления, оказывающие деструктивное воздействие на экономическую безопасность государств.
Актуальность исследования коррупции как фактора, способствующего развитию экономической преступности, обусловлена целым рядом обстоятельств. Во-первых, коррупция и экономическая преступность представляют серьезную угрозу экономической безопасности как России, так и Казахстана, подрывая основы государственности, дестабилизируя социально-экономическое развитие и снижая эффективность реформ. Во-вторых, несмотря на принимаемые меры противодействия коррупции, статистика свидетельствует о сохранении высокого уровня коррупционных преступлений. В-третьих, современные формы коррупции и экономической преступности становятся все более изощренными, что требует постоянного совершенствования правовых механизмов их выявления и пресечения.
По данным международной организации Transparency International, Казахстан в 2023 году занимал 101 место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции (далее – рейтинг), Россия –137 место, что свидетельствует о серьезности проблемы. Хотя в 2024 году Казахстану удалось занять 88 место в данном рейтинге, страна набрала всего на 1 балл больше по сравнению с 2023 годом, тем самым она все еще остается в числе высоко коррумпированных [6]. При этом, согласно исследованиям казахстанских экспертов, около 30% экономических преступлений в стране имеют коррупционную составляющую [8, с.80].
Цель данного исследования – выявить и проанализировать уголовно-правовые и криминологические аспекты коррупции как фактора, способствующего развитию экономической преступности, а также предложить эффективные меры противодействия этим негативным явлениям.
В криминологической науке коррупция традиционно рассматривается как сложный социально-правовой феномен, имеющий экономические, политические и моральные корни. Важно отметить, что многие ученые подчеркивают тесную связь коррупции с экономической преступностью.
Например, российский исследователь В.В. Лунеев трактует коррупцию как «использование государственными, муниципальными или иными публичными служащими либо служащими коммерческих или иных организаций своего статуса для незаконного получения имущества, прав на него, услуг или льгот» [5, с.564].
Казахстанский правовед Е.О. Алауханов определяет коррупцию как «социальное явление, характеризующееся подкупом-продажностью государственных и иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных или узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей»[1, с.359].
В Казахстане определение коррупции законодательно закреплено в Законе Республики Казахстан 18 ноября 2015 года №410-V«О противодействии коррупции» (далее – Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V). Например, в соответствии с подпунктом 6 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», под коррупцией представляется «незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненными к ним лицам, должностными лицами своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных либо неимущественных благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ» [7].
А.И. Долгова, исследуя причины и условия преступности, указывает на то, что коррупция является не только следствием экономических проблем, но и сама выступает в качестве фактора, деформирующего экономические отношения и создающего условия для незаконного обогащения [2].
Коррупционные практики формируют многоуровневую структуру, способствующую пролиферации экономической преступности посредством нескольких взаимосвязанных механизмов:
1.Функционирование системы правовой иммунизации. Манипуляции должностными полномочиями через коррупционные транзакции значительно снижают вероятность привлечения к юридической ответственности, минимизируют эффективность следственных мероприятий и обуславливают возможность избежать адекватных правовых санкций, включая конфискацию активов, полученных противоправным путем.
2.Формирование искусственных барьеров рыночной конкуренции. Коррупционные связи обеспечивают противоправные конкурентные преимущества при государственном распределении ресурсов, включая тендерные процедуры и систему государственных закупок, что приводит к вытеснению экономических субъектов, функционирующих в рамках правового поля.
3. Несанкционированная дистрибуция инсайдерской информации. Коррумпированные представители государственных структур обеспечивают трансфер конфиденциальной информации, имеющей стратегическое значение для совершения экономических правонарушений, включая сведения о регуляторных мероприятиях, финансовых потоках и инвестиционных проектах с высоким потенциалом капитализации.
4. Институциональная фасилитация противоправной деятельности. Коррупционное воздействие на должностных лиц способствует получению необходимой разрешительной документации и нормативных актов, легитимизирующих неправомерную экономическую деятельность.
Следствием указанных факторов является систематическая каталитическая функция коррупции в отношении широкого спектра экономических правонарушений, включающих:
- экспроприацию государственных финансовых ресурсов и материальных активов;
- процессы легализации доходов, полученных преступным путем;
- налоговые правонарушения, направленные на минимизацию фискальных обязательств;
- коррупционные деликты (взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями);
- трансграничное перемещение товаров с нарушением таможенного законодательства;
- противоправные действия, направленные на ограничение конкуренции;
- мошеннические схемы в сфере государственных закупок;
- неправомерное поглощение экономических субъектов.
Актуализация проблематики уголовно-правового противодействия коррупционным деяниям обуславливает необходимость осуществления детального компаративного анализа законодательных конструкций соответствующих правовых норм в Уголовных кодексах Российской Федерации и Республики Казахстан.
Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) демонстрирует системный подход к криминализации коррупционных деяний, выраженный в консолидации релевантных составов преступлений в рамках главы 15УК РК «Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления». Дифференциация уголовной ответственности осуществляется по критерию специфики противоправного деяния: статья 366 УК РК инкриминирует получение взятки, статья 367 УК РК – дачу взятки, статья 368 УК РК устанавливает санкции за посредничество во взяточничестве [10].
Аналогичная правовая парадигма прослеживается в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ), где ответственность за коррупционные деликты регламентирована главой 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Модель криминализации коррупционных деяний в российском законодательстве представлена корреспондирующими статьями: получение взятки – статья 290 УК РФ, дача взятки – статья 291 УК РФ, посредничество во взяточничестве – статья 291.1 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями – статья 285 УК РФ [11].
Компаративистский анализ нормативных конструкций выявляет определенную конвергенцию подходов законодателей обоих государств к структурированию системы уголовно-правовых норм, направленных на противодействие коррупционным явлениям, что обуславливается общностью правовых традиций и сходством социально-экономических детерминант коррупционной преступности.
В процессе юридической квалификации коррупционных деликтов правоприменительная практика сталкивается с комплексом гносеологических и процессуально-доказательственных проблем. Первостепенную сложность представляет верификация субъективной стороны деяния, в частности, корыстной мотивации субъекта преступления, а также установление каузальной связи между действиями (бездействием) должностного лица и наступившими социально опасными последствиями.
Дополнительные трудности обусловлены прогрессирующей латентностью коррупционных механизмов посредством их интеграции в легальные экономико-правовые конструкции. Правонарушители используют сложные юридические инструменты для имитации правомерного характера операций, что существенно затрудняет идентификацию коррупционного содержания транзакций в контексте их внешней легитимности.
Особую методологическую проблему представляет дифференциация коррупционных преступлений от смежных составов правонарушений, имеющих сходную объективную сторону. Отсутствие четких квалификационных критериев в ряде случаев затрудняет процесс правоприменения и может приводить к неоднозначности судебной практики.
Таким образом, указанные дефекты правоприменительной практики обуславливают необходимость совершенствования методологии расследования коррупционных преступлений и разработки более эффективных юридических критериев их квалификации.
Комплексный анализ научных трудов казахстанских и российских правоведов позволяет систематизировать ключевые детерминанты коррупционной и экономической преступности следующим образом:
1. Дефекты правового регулирования, выражающиеся в наличии нормативных коллизий, пробелов законодательства и неопределенности правовых норм, что формирует предпосылки для диспозитивного толкования правоприменителями соответствующих положений и реализации коррупционных схем.
2. Институциональная непрозрачность функционирования органов государственной власти, проявляющаяся в ограниченности доступа граждан к информации о принятии управленческих решений и недостаточной имплементации механизмов общественного контроля.
3. Деформация правосознания и дефицит правовой культуры населения, характеризующиеся толерантным отношением к коррупционным практикам, правовым нигилизмом и неразвитостью институтов гражданского общества как субъектов противодействия коррупции.
4. Несовершенство систем финансового мониторинга и аудита доходно-расходных операций государственных служащих, не позволяющее эффективно выявлять несоответствия между декларируемыми сведениями об имущественном положении и фактическим материальным благосостоянием должностных лиц.
5. Дисфункциональность процедур государственных закупок, создающая условия для неконкурентного распределения бюджетных средств, манипулирования критериями отбора поставщиков и установления аффилированности между заказчиками и исполнителями.
6. Избыточная бюрократизация административных процессов, порождающая необходимость многоступенчатого согласования и создающая предпосылки для неформальной «монетизации» управленческих решений.
7. Административные барьеры в экономической деятельности, выражающиеся в чрезмерной регламентации предпринимательской активности и формировании экономических стимулов к коррупционному взаимодействию бизнеса и власти.
8. Диспропорциональность пенитенциарной политики в сфере противодействия экономической преступности, обусловленная неадекватностью санкций реальному экономическому ущербу и недостаточной эффективностью механизмов возмещения причиненного вреда.
Таким образом, противодействие коррупции выступает одним из приоритетных направлений в комплексе мер, направленных на борьбу с экономической преступностью. Повышение эффективности антикоррупционных стратегий требует реализации комплекса взаимосвязанных мер, охватывающих различные сферы общественной жизни. Например, на основании вышеизложенного, разработаны следующие концептуальные основы совершенствования уголовно-правовых мер противодействия коррупции:
1. Теоретико-правовые аспекты института уголовной ответственности юридических лиц. Одним из наиболее дискуссионных вопросов современной уголовно-правовой науки является проблема введения института уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления. Следует отметить, что законодательству, как России, так и Казахстана данный институт традиционно не свойственен, что обусловлено доминированием в уголовном законодательстве принципа личной виновной ответственности.
Однако анализ международно-правовых стандартов и зарубежного опыта свидетельствует о высокой эффективности данного института в сфере противодействия коррупции. Например, Конвенция ООН против коррупции, ратифицированная обоими государствами, содержит рекомендации о введении ответственности юридических лиц за участие в коррупционных правонарушениях (ст. 26) [4].
По мнению автора, введение уголовной ответственности юридических лиц позволит эффективно противодействовать сложным коррупционным схемам, в которых активно используются корпоративные структуры. Кроме того, данный институт обеспечит возможность применения более широкого спектра санкций, включая ликвидацию юридического лица, приостановление его деятельности, запрет на участие в государственных закупках.
Имплементация института уголовной ответственности юридических лиц потребует существенной модификации концептуальных основ уголовного законодательства обоих государств, в частности:
- пересмотра принципа субъективного вменения;
- разработки критериев атрибуции (вменения) деяния юридическому лицу;
- создания системы санкций, адекватных правовой природе юридического лица.
2. Научно-методологические основы расширения перечня коррупционных преступлений. Расширение перечня коррупционных преступлений представляет собой важное направление совершенствования уголовного законодательства России и Казахстана. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о наличии правовых лакун, позволяющих избежать ответственности за деяния, обладающие признаками коррупции.
В частности, представляется целесообразной криминализация следующих деяний:
- незаконное обогащение (в соответствии со ст. 20 Конвенции ООН против коррупции) [4];
- торговля влиянием;
- протекционизм;
- непотизм (кумовство);
- конфликт интересов, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
При этом следует подчеркнуть, что процесс криминализации должен осуществляться с учетом принципа правовой определенности, что предполагает формулирование четких диспозиций соответствующих уголовно-правовых норм [9, с.8].
3. Теоретическое обоснование дифференциации ответственности за рецидив коррупционных преступлений. Повышенная общественная опасность рецидива коррупционных преступлений обусловливает необходимость дифференциации уголовной ответственности. В научной литературе отмечается, что совершение коррупционного преступления лицом, ранее судимым за аналогичное деяние, свидетельствует о формировании устойчивой антисоциальной установки и высокой вероятности продолжения противоправной деятельности в будущем [3, с.47].
В данном контексте представляется обоснованным внесение в уголовное законодательство обоих государств следующих изменений:
- введение квалифицирующего признака «совершение коррупционного преступления лицом, имеющим судимость за коррупционное преступление»;
- установление запрета на применение условного осуждения к лицам, совершившим коррупционное преступление при рецидиве;
- увеличение сроков погашения судимости за коррупционные преступления;
- установление пожизненного запрета на занятие определенных должностей для лиц, неоднократно осужденных за коррупционные преступления.
Реализация данных мер позволит обеспечить неотвратимость и соразмерность наказания за рецидив коррупционных преступлений, что будет способствовать снижению уровня коррупции в долгосрочной перспективе.
4. Модернизация института конфискации имущества в контексте противодействия коррупции. Конфискация имущества является одним из наиболее эффективных инструментов противодействия коррупции, поскольку позволяет лишить преступников экономической выгоды, полученной в результате противоправной деятельности. Однако анализ действующего законодательства России и Казахстана свидетельствует о наличии определенных дефектов правового регулирования данного института.
Перспективные направления совершенствования механизма конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений, включают:
- расширение перечня имущества, подлежащего конфискации;
- введение механизма конфискации «inrem» (вне зависимости от вынесения обвинительного приговора);
- совершенствование процедуры выявления и изъятия активов, полученных преступным путем;
- создание специализированных подразделений по розыску активов коррупционного происхождения;
- развитие международного сотрудничества в сфере конфискации имущества, находящегося за пределами юрисдикции государства.
Особое значение имеет решение проблемы конфискации имущества, оформленного на третьих лиц (номинальных владельцев). В данном контексте целесообразно введение правовой презумпции коррупционного происхождения имущества, если его стоимость превышает законные доходы должностного лица и последнее не может подтвердить легитимность источников приобретения такого имущества.
5. Институциональные аспекты уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. Внедрение института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц представляет собой компромиссное решение проблемы корпоративной коррупции в условиях отсутствия полноценного института уголовной ответственности юридических лиц.
Данный подход предполагает сохранение традиционной парадигмы уголовной ответственности физических лиц с одновременным введением системы мер уголовно-правового характера, применяемых к юридическим лицам, причастным к совершению коррупционных преступлений.
К числу таких мер могут быть отнесены:
- штраф в кратном размере от суммы коррупционной сделки или полученной выгоды;
- запрет на осуществление определенных видов деятельности;
- запрет на участие в государственных закупках;
- ликвидация юридического лица.
Применение указанных мер должно осуществляться в рамках уголовного судопроизводства при доказанности причастности юридического лица к совершению коррупционного преступления, что обеспечит соблюдение принципов справедливости и соразмерности правового воздействия [12].
6. Доктринальные основы применения альтернативных мер уголовно-правового характера. Расширение применения мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению свободы, при сохранении жестких имущественных санкций представляет собой важное направление гуманизации уголовной политики в сфере противодействия коррупции.
Анализ эффективности уголовно-правового воздействия свидетельствует о том, что лишение свободы не всегда является оптимальной мерой наказания за коррупционные преступления небольшой и средней тяжести, особенно в случаях деятельного раскаяния и возмещения причиненного ущерба.
При этом важно подчеркнуть, что применение альтернативных мер наказания должно сопровождаться обязательной конфискацией имущества, полученного в результате коррупционной деятельности, что обеспечит соблюдение принципа неотвратимости ответственности.
В результате проведенного исследования была проверена гипотеза о том, что коррупция является ключевым определяющим фактором эскалации экономической преступности в современных социально-экономических условиях. Многоаспектный анализ уголовно-правовых и криминологических параметров данного феномена позволяет сформулировать ряд концептуальных выводов, обосновавших теоретическую и практическую принципиальность.
Во-первых, коррупционные и экономические преступления представляют собой дифференциально разделенную и взаимообусловленную бинарную систему, формирующую единый деструктивный комплекс. Эмпирически подтверждено, что коррупционные механизмы реализуют каталитическую функцию в отношении широкого спектра экономических последствий посредством четырех основных институциональных каналов:
1. системы запрета иммунизации противоправной деятельности;
2. формирование искусственных барьеров конкурентной среды;
3. несанкционированная трансляция инсайдерской информации;
4. институциональной легитимизации неправомерных экономических операций.
Во-вторых, сравнительный анализ Уголовных кодексов Республики Казахстан и Российской Федерации обеспечивает особую конвергенцию юридических подходов к структурированию системы уголовно-правовых норм. Однако современная правоприменительная практика сталкивается с комплексом эпистемологических и процессуально-доказательных проблем, детерминированных прогрессивной латентностью коррупционных принципов и их интеграцией в легальные экономико-правовые конструкции, что снижает эффективность превентивной функции уголовного права.
В-третьих, аналитические данные международной организации Transparency International на 2023-2024 годы свидетельствует о сохранении крайне низких позиций России и Казахстана в Индексе восприятия коррупции, что объективно актуализирует тенденцию в прогрессивных правовых инструментах противодействия коррупции и связанной с ней экономической преступности. Особую научно-практическую инновационность разработки институциональных инноваций в сфере уголовно-правового регулирования.
На основании проведенного исследования был сформулирован комплекс научно-обоснованных концептуальных положений по совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия коррупции, включающих:
- внедрение института уголовной ответственности юридических лиц с учетом особенностей национальных правовых систем;
- криминализация деяний, предусмотренных международными антикоррупционными стандартами (незаконное обогащение, торговое влияние, протекционизм);
- дифференциация ответственности за рецидив коррупционных преступлений с реализацией квалифицирующих признаков;
- модернизация института конфискации имущества с внедрением механизмов конфискации «inrem»;
- диверсификация альтернативных мер уголовно-правового характера при сохранении жестких имущественных санкций.
Реализация предложенных концептуальных положений требует существенной модификации доктринальных основ уголовного законодательства каждого государства, однако в активной борьбе позволит значительно повысить эффективность превентивной и регулятивной функций уголовного права в сфере противодействия коррупции и экономической преступности. Для устойчивого достижения результатов необходим системный подход, интегрирующий совершенствование нормативных правовых принципов с институциональными реформами, направленными на повышение прозрачности государственного управления, развитие правосознания общества и укрепление институтов экономики.
Таким образом, эффективное противодействие коррупции как определяющему фактору экономической преступности является одним из ключевых факторов обеспечения экономической безопасности государства и обеспечения социально-экономического развития общества в условиях принятия современных вызовов.
Список литературы:
- Алауханов Е. О. Криминология: учебник: Общая и Особенная части. – Алматы: Жетіжарғы, 2008. – 664 с.
- Долгова А. И. Избранные труды / сост. В. В. Меркурьев и др.; вступ. ст. М. П. Клейменова и др. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2017.
- Казакевич С. М. Изучение личности коррупционного преступника как источник криминологической информации (на примере Республики Беларусь) // Вестник Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина. – 2023. – № 3. – С. 45–49.
- Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции: принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 окт. 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 17.04.2025).
- Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. Т. II. Особенная часть. – М.: Юрайт, 2022. – 872 с.
- Международная организация Transparency International. Индекс восприятия коррупции, 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.transparency.org/en/cpi/2024/ (дата обращения: 17.04.2025).
- О противодействии коррупции: Закон Респ. Казахстан от 18 нояб. 2015 г. № 410-V ЗРК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410 (дата обращения: 17.04.2025).
- Смагулов А. А. Коррупция и экономическая преступность в Казахстане: статистический анализ // Право и государство. – 2022. – № 1. – С. 78–85.
- Талапина Э. В. Антикоррупционный информационный стандарт в государственном управлении: подходы к пониманию // Государство и право. – 2011. – № 3. – С. 5–18.
- Уголовный кодекс Респ. Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК (в ред. от 05.04.2025) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 17.04.2025).
- Уголовный кодекс Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.02.2025) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 17.04.2025).
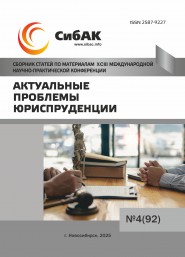

Оставить комментарий