Статья опубликована в рамках: XC Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 22 января 2025 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Уголовное право
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ОТГРАНИЧЕНИЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ ОТ ИНЫХ ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются отличительные особенности крайней необходимости от иных обстоятельств, исключающих преступность деяния. Особое внимание уделено анализу соотношения и разграничения обозначенного института от категорий необходимой обороны, обоснованного риска и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Ключевые слова: крайняя необходимость, обоснованный риск, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, соразмерность вреда, превышение пределов.
Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния, предусмотрена ст. 39 УК РФ [1]. Данный институт является элементом системы всех подобных обстоятельств, соответственно, требует установления отграничительных критериев. Особое сходство категория крайней необходимости в уголовном праве имеет с институтами необходимой обороны, обоснованного риска и причинением вреда при задержании преступника.
В качестве ключевых аспектов, позволяющих разграничить институты крайней необходимости и необходимой обороны следует обозначить следующие:
- источник опасности: при необходимой обороне – это только поведение человека; при крайней необходимости – любые факторы (силы природы, поведение животных и т.п.);
- направленность вреда: в обстоятельствах крайней необходимости вред причиняется третьим лицам; при необходимой обороне – только посягающему;
- характер вреда: при необходимой обороне допускается причинение вреда больше предотвращенного, при крайней необходимости – нет;
- возмещение причиненного вреда: отсутствует в институте необходимой обороны, наличествует при ущербе в обстоятельствах крайней необходимости. Например, причинение ущерба имуществу при спасении жизни в условиях крайней необходимости будет подлежать возмещению на законных основаниях;
- причинение вреда при превышении условий правомерности: для необходимой обороны в действующем УК РФ предусмотрены привилегированные составы (ст.ст. 108, 114 УК РФ); нарушение условий крайней необходимости оценивается в рамках института смягчающих наказание обстоятельств (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Например, спасение своей жизни за счет другого человека в экстремальной ситуации (кораблекрушение) будет оценено как убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах, а причинение тяжкого вреда здоровью насильнику – по привилегированному составу.
Крайнюю необходимость также следует отграничивать от обстоятельства, регламентированного ст. 38 УК РФ: причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Обозначенные факторы являются обстоятельствами, исключающими преступность деяния. «К общим признакам исследуемых обстоятельств относится ликвидация преступности деяния, вынужденность их совершения и причинения вреда, цель которых является защита правоохраняемых интересов» [5, с. 262].
Разграничение указанных категорий состоит в основаниях их применения. Если для крайней необходимости таковым является необходимость устранения опасности, порожденной любыми факторами, то для причинения вреда преступнику при задержании – необходимость пресечения преступного поведения.
Различие также состоит в характеристиках причиненного вреда. Если при крайней необходимости законодатель использует формулу «вред равный или более значительный, чем предотвращенный» (ч. 2 ст. 39 УК РФ) [1], то при задержании «явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред» (ч. 2 ст. 38 УК РФ)[1]. Несмотря на то, что в УК РФ нет указания на соотношение причиненного и предотвращенного вреда, в научной литературе высказывается мнение, что в отношении обозначенной характеристики следует использовать формулу, используемую при крайней необходимости [6, с. 303]. Не согласимся с указанной позицией, т.к. в таком случае право лица, осуществляющего задержание преступника, будет существенно ограничено. Здесь необходимо учитывать степень общественной опасности лица, совершившего преступление, а также тяжесть самого совершенного им деяния. Однако в любом случае «при прямом умысле исключается обязательный элемент признания законности задержания» [7, с. 72].
Не менее важным отличительным признаком является наличие опасности. В научной литературе, где рассматриваются вопросы разграничения крайней необходимости и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, не обращается внимание на достаточно важный (с точки зрения авторов) аспект: если при крайней необходимости опасность должна быть наличной, то при задержании лица – не всегда. Для подтверждения этого аспекта обратимся к постановлению Пленума Верховного Суда РФ, в котором указывается, что «Задержание лица, совершившего преступление, может производиться и при отсутствии непосредственной опасности совершения задерживаемым лицом общественно опасного посягательства. При этом задержание такого лица осуществляется с целью доставить его в органы власти и тем самым пресечь возможность совершения им новых преступлений» [8].
Можно провести отличие и через последствия в виде возмещения причиненного вреда. При причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, вред не возмещается, а в ситуации крайней необходимости такой причинный вред может быть возмещен по решению суда [9, с. 209], что предусмотрено ст. 1067 ГК РФ [10].
Следует отметить такие разграничительные критерии рассматриваемых обстоятельств как: направленность вреда и его правовая оценка при превышении установленных законом пределов. При задержании ущерб причиняется непосредственно преступнику; при крайней необходимости – третьим лицам. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, при нарушении установленных правил – привилегированный состав, для ситуации превышения крайней необходимости – смягчающее обстоятельство.
Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния, предусмотрен ст. 41 УК РФ. Отметим, что в отличие от крайней необходимости, норма об обоснованном риске была включена в российское уголовное законодательство только в 1991 году «как оправданный профессиональный и хозяйственный риск и применяется крайне редко» [2, с. 579]. Не останавливаясь на характеристике данного обстоятельства, обратимся к вопросу о разграничении анализируемых категорий. В ряде случаев это затруднительно, поскольку «законодателем не дан исчерпывающий перечень тех обстоятельств, в условиях которых можно прибегнуть к крайней необходимости либо к обоснованному риску» [3, с. 111]. Действительно, практически невозможно перечислить все без исключения жизненные обстоятельства, которые можно квалифицировать как причинение вреда в условиях крайней необходимости или обоснованного риска. Однако из содержания норм статей 39 и 41 УК РФ можно выявить признаки, разграничивающие данные факторы.
Первым таким признаком является цель, на достижение которой они направлены. Если при крайней необходимости такой целью является устранение конкретной грозящей опасности, то при обоснованном риске целью выступает «достижение общественно полезной цели» (ч. 1 ст. 41 УК РФ) [1].
Второй признак – источник, который порождает возникновение права на причинение вреда. При крайней необходимости – это «опасность, непосредственно угрожающая личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства» (ч. 1 ст. 40 УК РФ) [1]; при обоснованном риске – эта опасность может быть как непосредственной, так и потенциальной. Например, если в качестве примера использовать сферу оказания медицинских услуг, то принятие решения о проведении операции в экстренной ситуации, непосредственно угрожающей жизни пациента подпадает под условия крайней необходимости, тогда как проведение операции, не связанной со спасением жизни (например, косметологической) подпадает под признаки обоснованного риска [4, с. 399]. Согласимся с мнением, что в отличие от крайней необходимости, «в ситуации обоснованного риска не должно быть осознания неизбежности причинения вреда, поскольку рискующий, предпринимая необходимые меры предосторожности, рассчитывает на благоприятный исход» [2, с. 580].
Третий признак носит временной характер. При крайней необходимости возникшая опасность и сами действия по ее устранению следуют друг за другом сразу, тогда как при обоснованном риске возможность наступления общественно вредных последствий и действия по ее устранению/предотвращению могут быть «разорваны» во времени, то есть при обоснованном риске имеет место временной промежуток между принятием решения о действии и самим действием.
Четвертый признак касается применения мер по предотвращению причинения вреда интересам, охраняемым уголовным законом. Касательно крайней необходимости частью 1 статьи 40 УК РФ устанавливается, что причинение вреда будет только тогда уголовно ненаказуемым, когда имеет место невозможность устранения опасности иными средствами кроме тех, что причиняют вред. При обоснованном риске фактически также уголовный закон требует, чтобы рискованные действия являлись единственно возможным средством достижения цели, но при этом необходимо, чтобы «лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам» (ч. 2 ст. 41 УК РФ) [1]. При этом законодатель использует соединительный союз «и», что означает совокупное присутствие вышеуказанных условий.
Пятый признак – соотношение полезного эффекта и негативного (вредного результата). В ч. 2 с. 39 УК РФ прямо установлено ограничение относительно случаев, если «указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный» (ч. 2 ст. 39 УК РФ) [1]. В таких ситуациях правомерно отметить превышение пределов крайней необходимости, при этом причиненный вред должен явно не соответствовать «характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась» (ч. 2 ст. 39 УК РФ) [1]. В отличие от обозначенных в ч. 2 ст. 39 УК РФ положений, в ст. 41 УК РФ понятие «превышение пределов» не используется. Однако здесь необходимо обратить внимание на ч. 3 данной нормы, в которой закрепляется, что «риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия» (ч. 3 ст. 41 УК РФ) [1]. Данный аспект можно расценивать как указание на своего рода превышение пределов обозначенного института. Явным недостатком является использование такого оценочного признака как «многих людей». Многих – это сколько. Действительно, конкретизировать количество в данном случае – сложно, ведь жизнь каждого человека бесценна.
Шестым признаком, разграничивающим крайнюю необходимость и обоснованный риск, является адресность опасности причинения вреда, которая в случае с крайней необходимостью носит конкретный характер (личность и права лица, действующего в ситуации крайней необходимости, иных лиц, а также охраняемые законом интересы общества или государства), а в случае с обоснованным риском данный аспект точно не определен.
Помимо обозначенных обстоятельств, исключающих преступность деяния, необходимость в отграничении крайней необходимости от физического или психического принуждения (ст. 40 УК РФ) и от исполнения приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ), отсутствует. Содержание указанных обстоятельств кардинально отличается от института крайней необходимости за исключением обобщающих признаков, характерных для всех обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Таким образом, институт крайней необходимости необходимо разграничивать от иных обстоятельств, исключающих преступность деяния. Проводить различие очень важно, поскольку это позволяет правильно квалифицировать содеянное, реализовать принцип справедливости и цели уголовно закона.
Список литературы:
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 25.12.2024).
- Сумец Д.В. Крайняя необходимость и обоснованный риск: проблемы разграничения // Инновации. Наука. Образование. - 2021. - № 37. - С. 577-580.
- Гнусарев А.С. Проблемы разграничения понятий крайняя необходимость и обоснованный риск в уголовном праве // Современная Российская наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей IX Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза, 2024. - С. 110-113.
- Приходько С.Б. Крайняя необходимость и обоснованный риск в медицинской практике // Актуальные проблемы региональной социологии: сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Курск, 2022. - С. 397-400.
- Соколов Н.И. Соотношение причинения вреда при задержании лица, совершившего преступления и крайней необходимости // Трибуна ученого. - 2022. - № 5. - С. 261-266.
- Голубев О.А. Правовое регулирование в российском уголовном праве причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. - 2021. - № 3. - С. 293-305.
- Батанина И.П. Необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и крайняя необходимость: понятия и условия их правомерности // Молодой ученый. - 2022. - № 25. - С. 71-73.
- О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 (ред. от 31.05.2022 № 11) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/ (дата обращения 25.12.2024).
- Никуленко А.В. Законодательная модернизация крайней необходимости // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра. Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции/ Под общ. ред. Т.А. Огарь. - Санкт-Петербург, 2022. - С. 202-211.
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 № 190-ФЗ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 25.12.2024).
дипломов
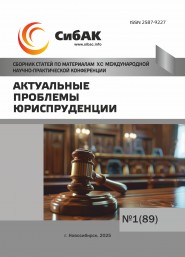

Оставить комментарий