Статья опубликована в рамках: LXXXIX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 18 декабря 2024 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Предпринимательское право и правовые основы банкротства
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
О ПРИОРИТЕТЕ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАД ДОГОВОРНОЙ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
THE PRIORITY OF TORT LIABILITY OVER CONTRACTUAL LIABILITY IN A BANKRUPTCY CASE
Vladimir Lesnykh
Postgraduate student at St. Petersburg State University
Russia, Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей признания недействительными сделок в делах о банкротстве (несостоятельности) юридического лица. Анализ особенностей построен на мониторинге судебной практики и Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Определено, что признание должника банкротом является триггером формирования приоритета деликтной ответственности над договорными правоотношениями. Причиной тому является принципы и задачи самой процедуры банкротства, прокредиторская система банкротства, направленная на защиту интересов кредиторов.
ABSTRACT
The purpose of the article is to consider the specifics of invalidation of transactions in bankruptcy (insolvency) cases of a legal entity. The analysis of the features is based on the monitoring of judicial practice and Federal Law No. 127-FZ dated 26.10.2002 "On Insolvency (Bankruptcy)". It is determined that the recognition of the debtor as bankrupt is a trigger for the formation of the priority of tort liability over contractual legal relations. The reason for this is the principles and objectives of the bankruptcy procedure itself, the bankruptcy procreditor system aimed at protecting the interests of creditors.
Ключевые слова: банкротство, оспаривание сделки, состав гражданского правонарушения
Keywords: bankruptcy, contesting a transaction, composition of a civil offense
Для привлечения к субсидиарной ответственности, также как и гражданской-правовой в виде взыскания убытков необходимо наличие всех элементов состава гражданского правонарушения. Вина и противоправность – два самостоятельных элемента, которые презюмируются в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности, что определяет только бремя доказывания обратного, поскольку связано с ограниченными возможностями сбора доказательств независимыми участниками должника, что и является отличительной особенностью от иска о взыскании убытков. При установлении субсидиарной ответственности действуют оспоримые презумпции, которые по общему правилу не преюдицируются на обстоятельства, в том числе противоправности действия контролирующего лица в деле о взыскании убытков, в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности (п. 6 ст. 61.20 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), что образует прецеденты, когда контролирующих лиц к субсидиарной ответственности привлекают, но во взыскании убытков отказывают, в том числе, из-за недоказанности конкретных фактов, подтверждающих ненадлежащее исполнение обязанностей контролирующими лицами [1, с. 3].
Противоправность как условие взыскания убытков с руководителя в деле о банкротстве заключается в совершении действий (бездействий) контролирующих лиц, повлекших банкротство, что отличается от обычных корпоративных исков, где противоправность заключается в нарушении объективных прав пострадавшего. В случае если руководитель организации исполнит требование за пределами срока исковой давности, то конечно у организации возникнут убытки, виноват в этом будет конкретное лицо и между элементами есть причинно-следственная связь, но противоправности в его действиях не будет, поскольку истекшее право требования лишает сторону права на судебную защиту, но не исключает наличие самого частноправового обязательства. Однако стоит организации стать банкротом в течение месяца со дня исполнения требования, ни у кого не остается сомнений в том, что совершено противоправное действие в виде оказания предпочтения одному из кредиторов, согласно ст. 61.3 Закона о банкротстве[9].
Вопрос о существовании разницы противоправности в составе деликтной и договорной ответственности будет раскрыт ниже.
Существует мнение, что ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) позволяет не сосредотачивать внимание на противоправности нарушителя как самостоятельном условии нарушения гражданско-правового обязательства [2, с. 403]. Неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязательства, установленного договором, может не нарушать правовые нормы, но может нарушать, например, обычаи делового оборота. Например, факт просрочки по договору залога достаточен для применения гражданской-правовой ответственности, где противоправность заключается в нарушении исполнения обязательства и субъективных прав участника договора.
Договорная ответственность отличается от деликтной тем, что убытки как мера гражданской ответственности может наступить не за противоправные действия, а например, за последствия, созданные иным субъектом, за события непреодолимой силы, если договором этот риск установлен. Нарушение договорного обязательства затрагивает охраняемый законом интерес кредитора, рассчитывавший на исполнение договора.
Немецкое гражданское право определяет приоритет в зависимости от того, где предусмотрено больше гарантий защиты прав пострадавшего. Например, если деликтом установлен более длительный срок исковой давности, чем это предусмотрено договором, суд ограничит деликтное право [3, с. 132].
Автор считает, что противоправность как основание для привлечения к гражданско-правовой ответственности по общему правилу устанавливает паритет в предписаниях, установленных нормами права и договором, однако в процедуре банкротства устанавливается приоритет императивной нормы права Закона о банкротстве, защищающей публичные интересы кредиторов над договорными правоотношениями между двумя участниками.
М.В. Телюкина раскрывая значение конструкции "трансформирующее воздействие конкурсного права на правовые отношения" указывает на правовое явление, состоящее в том, что возбуждение и осуществление производства по делу о банкротстве изменяет (трансформирует) гражданско-правовые институты, как бы вынуждая их развиваться не по гражданско-правовым, а по конкурсным законам [4, с. 231].
Правовая природа подозрительных сделок должника (ст. 61.2 Закона о банкротстве[9]) или влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов (ст. 61.3 Закона о банкротстве[9]) сами по себе, в отрыве от закона о банкротстве не являются недействительными сделками, убытки от добросовестного исполнения этих сделок у сторон образуются, но эти убытки взыскиваются не с контрагента, а с лиц принимавших решение по этой сделке от имени юридического лица, противоправности в исполнении этих сделок также не существует. Оспоримые сделки признаются недействительными только в условиях банкротства должника, в силу самого Закона о банкротстве. Согласно сложившейся доктрине, недействительность сделки по ст. 10 и 168 ГК РФ применяется в том случае, когда пороки сделки выходят за пределы оспоримости по мотивам, установленным законом о банкротстве [5, с. 3]. Таким образом, противоправные цели любой подозрительной сделки, в ситуации неплатежеспособности должника и признанная недействительной по нормам Закона о банкротстве, заключается в ущемлении интересов кредиторов. Противоправность же недействительной сделки по общему правилу содержит широкий перечень, поименованный в § 2 о недействительности сделок.
Рассмотрим, какое же отношение оспаривание сделок имеет к гражданско-правовой ответственности, в частности, противоправности как объективного состава.
Оспаривание и доказывание подозрительных или оспоримых сделок, а также факты, установленные судом, в рамках этих обособленных споров – это и есть доказательства наличия или отсутствия противоправности как одного из элементов состава гражданского правонарушения, применимого и ко взысканию убытков, и к субсидиарной ответственности. По смыслу подпункта 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве для доказывания факта совершения сделки, причинившей существенный вред кредиторам, заявитель вправе ссылаться на основания недействительности, в том числе предусмотренные статьей 61.2 (подозрительные сделки) и статьей 61.3 (сделки с предпочтением) Закона о банкротстве, что допустимо и в случае доказывания убытков, согласно ст. 61.20 Закона о банкротстве. [9]
Факт того, что реституция невозможна, как возврат действительной стоимости предмета подозрительной сделки, что неминуемо нарушает права кредиторов, является одним из доказательств, необходимых для взыскания убытков или привлечения к субсидиарной ответственности. Однако, одна лишь ссылка на наличие подозрительных сделок недостаточно для применения гражданско-правовой ответственности, необходимо наличие совокупности обстоятельств [6, с. 10].
Данное сравнение наглядно показывает, что в процедуре банкротства, договорные отношения в первую очередь направлены соблюдение интересов кредиторов и только потом добросовестных участников договора.
Стоит согласиться с мнением о том, что субсидиарная ответственность контролирующих лиц (также как и корпоративная ответственность руководителя) при банкротстве в российском праве преследует доктрину снятия корпоративного покрова в англо-американском праве, а именно защиту от злоупотреблений принципом ограниченной ответственности участников по долгам компании [7, с. 33; 8].
Поскольку Закон о банкротстве занимает исключительно про кредиторскую позицию, можно утверждать, что после признания должника банкротом, противоправность противопоставляется между частноправовым и публично-правовыми интересами в пользу последнего. Несмотря на то, что нарушение договорных правоотношений вредит экономическому обороту, товарно-денежным отношениям, частноправовые интересы направлены на извлечение только личной выгоды и обязательства, установленные за последствия созданные третьим лицом, непреодолимой силы риски не связанные с виной лица, обязанного. В условиях ограниченности актива должника образуются условия общественной опасности, где частные интересы могут посягать на интересы остальных кредиторов.
Список литературы:
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.05.2023 N Ф05-14803/2019 по делу N А40-188637/2016// URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/qQ2GMa0yPC14/ (дата обращения: 09.07.2023).
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1. 848 с.
- Шмагин А. Основы немецкого деликтного права // Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии (Sammelband in russicher Sprache zum aktuellen deutschen Recht), Сост. Д. Маренков. – 2015. - №1. – С. 126-144.
- Гражданское право социального государства: сборник статей, посвященный 90-летию со дня рождения профессора А.Л. Маковского (1930 - 2020) / А.Г. Архипова, А.В. Асосков, В.В. Безбах и др.; отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. Москва: Статут, 2020. 480 с.
- Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109923/ (дата обращения: 09.07.2023).
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"// URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 09.07.2023).
- Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства - неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. N 12. С. 6 - 61).
- Будылин С. Субсидиарная ответственность - подлинная и неподлинная. Вебинар Lextorium. 2020. URL: https://zakon.ru/discussion/2020/04/02/subsidiarnaya_otvetstvennost_podlinnaya_i_nepodlinnaya_vebinar_lextorium (дата обращения: 09.07.2023).
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // URL: https://base.garant.ru/185181/ (дата обращения: 09.07.2023).
- Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 21.10.1994 N 190-ФЗ // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 09.07.2023).
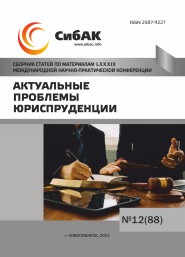

Оставить комментарий