Статья опубликована в рамках: XCVIII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук и современного менеджмента» (Россия, г. Новосибирск, 03 сентября 2025 г.)
Наука: Экономика
Секция: Мировая экономика и международные экономические отношения
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
STRATEGIES FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF THE TRANSFORMATION OF TRANSNATIONAL BANKING ACTIVITIES
Anton Morgunov
Student, Academy of Labor and Social Relations,
Russia, Moscow
Современная транснациональная банковская деятельность претерпевает масштабную трансформацию под воздействием цифровизации, углубления геополитических противоречий, роста санкционных ограничений и перестройки глобальной архитектуры финансового рынка. Согласно данным Банка международных расчетов (BIS), совокупный объём трансграничных банковских активов в 2023 году достиг 32 трлн долларов США, увеличившись на 6% по сравнению с 2022 годом [10, p. 12]. Однако качественная структура этих потоков меняется: заметно усиливается фрагментация мирового финансового пространства, а традиционные каналы международного взаимодействия все чаще дополняются региональными и национальными инициативами.
Международный валютный фонд (IMF) в отчёте Global Financial Stability Report 2024 указывает, что почти половина крупнейших банков с транснациональным присутствием сталкивается с ростом рисков ликвидности и давления на капитал вследствие ужесточения монетарной политики в развитых странах и нестабильности валютных рынков [9, p. 23]. Дополнительное напряжение создают санкционные меры, ограничивающие доступ к западным платёжным системам, что наиболее ярко проявилось в случае России и ряда стран Глобального Юга.
К числу основных угроз экономической безопасности в новых условиях относятся:
- нестабильность трансграничных потоков капитала, что усиливает волатильность национальных валют;
- зависимость от международной расчётной инфраструктуры (SWIFT, CHIPS, Euroclear), уязвимой к политическим ограничениям;
- рост киберугроз глобального масштаба, затрагивающих одновременно несколько финансовых систем;
- перераспределение капитала и уход инвестиций при изменении политического или регуляторного климата.
Эти вызовы формируют потребность в новых стратегиях обеспечения экономической безопасности, которые сочетают диверсификацию транснациональных каналов, развитие независимой инфраструктуры и укрепление международного сотрудничества в области киберустойчивости.
По данным Deloitte (2024 Banking and Capital Markets Outlook), цифровизация трансграничных платежей привела к тому, что в 2024 году свыше 60% международных расчётов осуществлялись через цифровые каналы, включая блокчейн-платформы и API-интеграции [4, p. 40]. Это снижает транзакционные издержки, но одновременно повышает значимость вопросов защиты данных и регулирования цифровых валют.
Международная практика демонстрирует разные модели адаптации к этим вызовам. Китай выстраивает собственную систему межбанковских расчетов CIPS и активно продвигает использование цифрового юаня (e-CNY) в трансграничных операциях, снижая зависимость от SWIFT. Индия развивает систему UPI для международных платежей и укрепляет роль национальной карты RuPay. Европейский союз внедряет инициативы в рамках PSD2 и MiCA, формируя единые стандарты цифровых платежей и обращения криптоактивов. США и Великобритания делают акцент на RegTech и публично-частных партнёрствах для повышения киберустойчивости.
Для России трансформация транснациональной банковской деятельности осложняется санкционным давлением, сокращением доступа к глобальным финансовым инфраструктурам и необходимостью ускоренной адаптации к новой архитектуре международных расчётов. Наиболее остро встала проблема обеспечения бесперебойности трансграничных платежей и сохранения доверия к национальной финансовой системе. В ответ выстраивается комплексная стратегия обеспечения экономической безопасности, включающая несколько взаимосвязанных направлений.
Во-первых, это развитие независимой платёжной инфраструктуры — системы передачи финансовых сообщений (СПФС), национальной системы быстрых платежей и собственных расчётных центров. Данные элементы позволяют снизить критическую зависимость от SWIFT и обеспечить автономность при проведении внутренних и части международных операций.
Во-вторых, значительное внимание уделяется запуску цифрового рубля, который рассматривается не только как инструмент модернизации внутренних расчётов, но и как потенциальная основа для создания новых каналов международных платежей в обход традиционных глобальных инфраструктур.
В-третьих, происходит диверсификация международных партнёрств. Россия активно укрепляет взаимодействие в рамках БРИКС, ЕАЭС и с отдельными странами Азии, Ближнего Востока и Африки, делая акцент на использование национальных валют в расчётах. Это позволяет снизить риски валютной зависимости и повысить устойчивость внешнеэкономической деятельности.
В-четвёртых, важнейшим элементом стратегии становится совершенствование нормативно-правовой базы и регулятивного надзора. Банк России обновляет положения о контроле трансграничных операций, управлении валютными рисками и мониторинге финансовых потоков, адаптируя национальное регулирование к новым условиям ограниченного доступа к глобальным рынкам капитала.
По данным Банка России, количество иностранных банков-корреспондентов, продолжающих операции с российскими финансовыми институтами, в 2024 году сократилось примерно на 30% по сравнению с 2021 годом. Однако активизация сотрудничества с Китаем, Индией, Турцией и странами Ближнего Востока позволила частично компенсировать снижение традиционных каналов [8, с. 74]. Более того, углубление интеграции в рамках БРИКС и переговоры о создании альтернативных систем расчётов свидетельствуют о стремлении к формированию новой архитектуры международных финансовых связей, менее подверженной политическим ограничениям.
Таким образом, российская модель адаптации опирается на сочетание инфраструктурных, валютно-финансовых и регулятивных решений. Анализ показывает, что устойчивое обеспечение экономической безопасности возможно только при интеграции нескольких стратегий: диверсификации расчётных систем, развитии RegTech и цифрового надзора, повышении киберустойчивости, формировании региональных финансовых блоков и внедрении цифровых валют центральных банков (CBDC).
Таблица 1.
Основные стратегии обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации транснациональной банковской деятельности
|
Стратегия |
Механизм реализации |
Пример стран/институтов |
Эффект для безопасности |
|
Диверсификация расчётных систем |
Развитие национальных и региональных каналов |
Китай (CIPS), Россия (СПФС) |
Снижение зависимости от SWIFT |
|
Использование RegTech и цифрового надзора |
Автоматизация KYC, AML, мониторинг транзакций |
ЕС, Великобритания |
Повышение прозрачности и снижение рисков |
|
Киберустойчивость |
Публично-частные партнёрства, инвестиции в защиту данных |
США, ЕС, Сингапур |
Снижение риска кибератак и утечек данных |
|
Формирование финансовых блоков |
Расчёты в национальных валютах и создание альтернативных систем |
АСЕАН, БРИКС |
Укрепление автономии и устойчивости |
|
Развитие цифровых валют центральных банков |
Внедрение CBDC в трансграничные расчёты |
Китай (e-CNY), Россия (цифровой рубль) |
Снижение издержек и рисков блокировки |
Таким образом, трансформация транснациональной банковской деятельности предъявляет новые требования к стратегическому обеспечению экономической безопасности. Для России приоритетными становятся развитие собственной финансовой инфраструктуры, углубление взаимодействия с незападными центрами силы и формирование устойчивой системы киберзащиты. При этом долгосрочная конкурентоспособность экономики будет зависеть от способности государства и банковского сектора выработать сбалансированную модель, сочетающую технологическую независимость с интеграцией в новые глобальные и региональные финансовые форматы.
Список литературы:
- McKinsey & Company. Global Banking Annual Review 2023. — 120 p.
- McKinsey & Company. Global Banking Annual Review 2024. — 124 p.
- BCG. Global Risk 2023: Risk, Resilience and Rebalancing. — 76 p.
- Deloitte. 2024 Banking and Capital Markets Outlook. — 54 p.
- PwC. Global Banking Trends 2024. — 118 p.
- EY. Global Financial Stability Risks 2024. — 63 p.
- Accenture. Banking Technology Vision 2024. — 82 p.
- Банк России. Отчёт о развитии банковского сектора в Российской Федерации. — Москва: ЦБ РФ, 2024. — 230 с.
- IMF. Global Financial Stability Report. April 2024. — Washington, D.C.: IMF, 2024. — 150 p.
- BIS. Annual Economic Report 2024. — Basel: Bank for International Settlements, 2024. — 160 p.
- Financial Stability Board (FSB). Annual Report 2023. — 92 p
дипломов
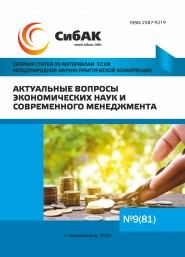

Оставить комментарий